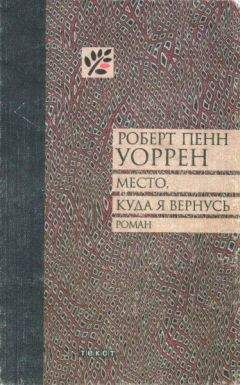Кожа на пятке была, вероятно, чуть шероховатой, и, когда она, прижимаясь к моей спине, чуть шевельнулась, я ощутил кожей это ее несовершенство — и тут вся реальность происходящего нахлынула на меня и накрыла с головой.
Вот что случилось накануне, и вот что сейчас, когда я сидел, уронив голову и прижавшись лбом к листкам бумаги на краю стола, снова происходило за моими закрытыми веками. Потом все закончилось, оставив после себя только легкое ощущение печали.
Я пребывал в мире воспоминаний до тех пор, пока не услышал, как щелкнул, запираясь, замок задней двери дома. Я встал, быстро перевернул три листка бумаги, лежавшие на столе, лицом вниз, положил на них книгу и почувствовал, как что-то чуть шевельнулось у меня между ног в предвкушении того, чему предстояло случиться. Настоящее вступило в свои права.
То, что сейчас просыпалось там, в темноте у меня между ног, жило, казалось, своей собственной жизнью, не имевшей никакого отношения к тому, из-за чего Джедайя Тьюксбери так долго сидел за столом в комнате, отгороженной плотной занавеской от яркого январского солнца, уронив голову и прижимаясь лбом к исписанным листкам бумаги, лежавшим на столе.
То, чему предстояло случиться в этот день — схватка, борьба, судорога, — уже однажды случилось раньше, но теперь это произошло безмолвно, торопливо, словно вне времени, и с естественностью закона природы, такого же бездумного, как закон тяготения.
Потом действующие лица некоторое время молча лежали, отодвинувшись друг от друга. Даже в ту минуту, когда их тела только что разделились, — а не только теперь, через много лет, — мне показалось — и сейчас кажется, — будто от меня остался всего лишь бесплотный кусочек сознания, который парил в воздухе полутемной комнаты, глядя на два тела, лежащие, как пловцы, только что с трудом преодолевшие полосу жестокого прибоя и теперь распростертые на берегу, охваченные каждое своим собственным изнеможением.
И теперь, когда мне вспоминается эта картина из прошлого — и эти переживания из прошлого, — я спрашиваю себя: не для того ли написаны все на свете книги — и эта тоже, — чтобы не дать себе видеть, какая кошмарная жуть наше прошлое?
Не знаю, сколько времени мы лежали так, но в конце концов я встал с кровати, чувствуя по всему телу зуд от высохшего пота, подошел босиком к столу, взял три исписанных листка бумаги и вернулся к кровати. Розелла — потому что теперь она снова стала Розеллой, а не Розой и с тех пор больше никогда не была для меня Розой — повернулась на бок, не сводя широко раскрытых глаз с листков, которые я держал в руке.
Я протянул ей листки. Высунув из-под простыни правую руку, белую и прекрасную в полутьме, она взяла их, пристально глядя мне в лицо.
Я зажег ночник у изголовья кровати и поднял свалившиеся с нее две подушки, заметив при этом на одной из них — видимо, на той, которая была подсунута под первозданный символ пола, — большое мокрое пятно. Я перевернул подушку пятном вниз и сказал:
— Лучше сядь, так будет удобнее читать.
Она приподнялась, прислонившись к спинке кровати.
— Подвинься вперед, я подложу подушки, — сказал я.
Она повиновалась, и простыня, прикрывавшая ее груди, сползла вниз.
— Они прекрасны, — сказал я, — только ты простудишься, ты же вся мокрая.
— Мне с тобой и мокрой хорошо, — ответила она, и на лице ее на секунду появилась улыбка, которую она явно старалась сделать как можно более правдоподобной. Но рука ее, сжимавшая листки бумаги, чуть дрогнула.
— Все равно лучше накройся, — сказал я.
Она снова повиновалась, и я забрался под простыню. Я лежал, не касаясь ее, подпирая голову рукой, чтобы лучше видеть ее лицо во время чтения письма. Сначала я ничего не замечал, но, когда она дошла до третьей страницы, увидел, что рука ее трясется.
Она дочитала письмо.
Все еще держа его в руке, она глядела поверх него в полутьму комнаты. Мне был виден только ее профиль, но по щеке, обращенной ко мне, медленно сползала с нижнего века большая слеза. Я видел, как она, очень медленно, ползет вниз, до самого подбородка. Потом по той же, уже мокрой дорожке поползла другая.
— Я хочу умереть, — произнесла Розелла тонким голосом, как будто издалека, не глядя на меня.
— О чем ты плакала? — спросил я. — Не сейчас, а тогда, в новогоднюю ночь. Там, у нее в комнате.
— А, вот ты о чем! — воскликнула она. — Дело не в этом. Дело в Марии. Что теперь с ней будет?
— Вот именно об этом, — сказал я, — я сейчас задумываться не хочу.
— Это совсем не то, что я замышляла… Не то, на что я надеялась, — заявила она. Внезапно повернувшись ко мне, она повторила: — Клянусь, это совсем не то!
И прежде чем я успел понять, чему мне следует поверить или не поверить из того, что она замышляла и на что надеялась, она вскричала:
— Все — ну, все, что я только ни делаю, кончается плохо! Всю мою жизнь! Я не виновата!
Она повернулась ко мне и взглянула мне прямо в лицо, словно в отчаянном нетерпении ожидая ответа.
— Разве я виновата, что так получается?
Ее рука потянулась к моей, но не дотянулась и упала на простыню.
— Разве я виновата, что я такая, какая я есть? — вскричала она, не сводя с меня умоляющего взгляда.
— Что за ерунда, о чем ты? — спросил я.
— А ты? — спросила она, сев прямо. — Ты виноват, что ты такой, какой ты есть? Я знаю одно: кроме тебя, больше у меня ничего нет. Неужели ты не видишь, что я здесь совсем одна? Мария уехала — ей я могла верить, она хорошая, по крайней мере, она была рядом, а теперь не осталось никого, с кем бы…
— А мне казалось, что тебе чертовски нравится Нашвилл, — заметил я.
— Мне вообще не надо было сюда приезжать, — сказала она, как будто обращаясь не ко мне, с какой-то внутренней горечью, и откинулась на спинку кровати. — Никогда. Мне не надо было делать ничего того, что я делала в своей жизни, потому что кончилось это тем, что я оказалась здесь, и… — Она секунду помолчала и закончила: — И одна.
Дыхание ее было медленным и тяжелым.
— Может быть, некоторое время я себя обманывала, — сказала она, по-прежнему как будто обращаясь не ко мне. — Но теперь нет. Я теперь знаю правду, и я совсем одна. — Она соскользнула с подушек и лежала, глядя в потолок. — Совсем одна, — повторила она тем же тонким голосом, как будто издалека. — Если не считать…
Она немного помолчала.
— Если не считать тебя.
Я ничего не сказал.
— А ты, — добавила она еще тише, шепотом, — тоже один.
Мы лежали не шевелясь. Через некоторое время раздался ее голос, едва слышный, словно подслушанная мысль:
— Потому что ты… ты тоже всегда был один.
В коридоре пробили часы.
— Эти часы правильные? — встрепенулась она.
Я сказал, что правильные.
— Четыре часа, — сказала она. Потом совершенно спокойным, бодрым, деловым дневным голосом продолжала: — И не позже, чем через двадцать минут, меня уже не должно быть в этой кровати и в этом доме. Мне надо одеться и ехать в город на обед, и…
Она замолкла, схватила мою руку и прижала к себе.
— Вот, пощупай, — сказала она, все еще тем же деловым тоном. Но потом, по-прежнему прижимая к себе мою руку, продолжала совсем другим голосом, похожим на ритмичный шепот: — Пощупай, ты почувствуешь, что я не могу без тебя, ты мне нужен, прямо сейчас, прямо сейчас, пока я не ушла, чтобы я могла забыть, пускай только на время, чтобы я чувствовала только тебя одного там, внутри.
— Ладно, — сказал я сдавленным, словно от ярости, голосом.
Мария уехала из Нашвилла. Она уехала 1 января, как раз в тот день, когда Розелла впервые пришла в мой домик на опушке леса. Она ни с кем не попрощалась, кроме своего отца.
Даже с Розеллой, хотя, как та мне впоследствии рассказала, именно она заставила Марию уехать. Когда Розелла проснулась в то новогоднее утро, лежа поперек кровати Марии, все еще в вечернем платье, босая и заплаканная, она увидела, что Мария, уже в дорожной одежде, сидит у окна и смотрит на поля, засыпанные свежим снегом.
Мария подошла, поцеловала ее и спросила, как она себя чувствует. Как потом рассказывала мне Розелла, интуиция подсказала ей, что происходит что-то важное. Мария собиралась остаться у Кадвортов на день-два, но сейчас она была уже в дорожной одежде, ее чемодан стоял хотя еще и не запертый, но явно уже упакованный, и на нем лежала косметичка.
— Но ты же остаешься! — воскликнула Розелла.
— Я останусь, если… Если я тебе действительно нужна, — сказала Мария.
В конечном счете Розелле удалось выпытать у нее, что произошло нечто такое, — что именно, она так и не узнала, — из-за чего Мария поняла, что должна уехать, что может уехать. Поэтому Розелла стала убеждать ее, что она ей совсем не нужна, что ее расстроенное состояние и слезы, когда она прибежала к Марии в комнату после танцев, — это пустяки, просто у нее с Лоуфордом случилась небольшая размолвка, которая показалась ей серьезной только потому, что она очень устала за этот вечер, и к тому же у нее были как раз проклятые дни, иначе они с Лоуфордом уладили бы все за десять минут обычным способом и уснули бы обнявшись. В заключение Розелла, как она рассказывала, категорически заявила Марии, что если та не уедет прямо сейчас же, сию минуту, то не уедет никогда.