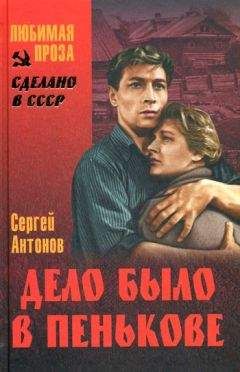Работа на стройке сдружила комсомольцев. Даже Лариса стала разговаривать с Тоней без обычной насмешливости.
— Ты бы от Алевтины подальше, — сказала она однажды. — Вредная баба. Смотри!
Она сидела верхом на стене, в лыжных штанах, и уверенно, по-мужски, тюкала топором.
— У тебя ко всем подозрение, — возражала Тоня, закрываясь своей маленькой ладонью от брызгавшей из-под топора щепы. — Алевтина Васильевна, если ты хочешь знать, помогает нам.
— Погоди, она тебя еще укусит! — говорила Лариса. — Ей этот клуб — нож вострый. В клубе гулять будем — кто к ней пойдет? Она только и живет с наших гулянок. Ей деньги платят. Смотри!
А Тоня только улыбалась, показывая свой непослушный зубок.
Работа подвигалась. Бревнами от разобранной риги удлинили избу, и здание уже вырисовывалось, — немного нескладное снаружи, но зато удобное внутри: со сценой, зрительным залом и фойе. В фойе получилось столько места, что планировали поместить там и библиотеку.
Дело могло бы пойти еще быстрей, но частые нехватки мелких строительных материалов надолго тормозили работы.
Выходили из положения по-разному. У Ивана Саввича удалось выпросить немного денег и кое-что купить в городе; по просьбе Зефирова и Матвея в эмтээсовских мастерских нарезали болты. А дранку для крыши обеспечили совсем просто: Матвей пустил слух, что приедут собирать налог с частников, и Уткин все свои запасы настроганной дранки закопал в овраг. Оттуда и брали сколько было надо.
Да и Иван Саввич, чем ближе к концу подвигалась работа, тем больше добрел и, когда приезжал Игнатьев, первым делом подводил его к клубу и показывал:
— Вот — создаем культурный очаг.
Однако денег больше не давал и трудодней за строительство культурного очага не начислял.
Видимо, поэтому ребята стали реже выходить на стройку, и каждого надо было подолгу упрашивать. А в последние дни работа совсем стала из-за болтов. Болты обещал принести Матвей. Но вот уже третий день он не приходил из МТС, и о нем не было ни слуху ни духу.
Тоня думала: «Как только соберут правление, поставлю вопрос, чтобы начисляли ребятам хоть немного трудодней».
Заседание правления состоялось внезапно. Днем на ферму прибежала Шурочка и выпалила:
— Антонина Андреевна, Иван Саввич велел вам захватить с собой план и срочно бежать в контору.
Тоня недоумевала. Зачем вдруг понадобились председателю ее наметки, к которым он относился с откровенной насмешкой? Но в конторе все выяснилось. Когда члены правления собрались и расселись по своим местам, Иван Саввич достал из кармана газету и медленно и торжественно прочитал постановление партии и правительства об изменении практики планирования сельского хозяйства.
— Ясно? — спросил он весело, дочитав до конца.
— Выходит, я была права, — сказала Тоня. Все почему-то засмеялись.
— Права, права… — закивал Иван Саввич. — Умней меня, дурака. Теперь, поскольку мы сами отвечаем за план, давай-ка снова поглядим твои таблички. Теперь интересней.
И снова началось обсуждение тониного плана. Происходило оно гораздо серьезней, чем в прошлый раз, но чем дольше шло, тем тяжелей становилось Тоне.
— Вот ты хочешь ольшаник корчевать, — объясняли ей правленцы. — Дело-то в том, что на наших полях много камня. И камень не верховой, а подземный — лежак. Сверху его не видно, а как станешь пахать, так вылезают огромные булыжины и ломают лемехи. Трактористы не хотят работать в бригаде Зефирова: говорят, что на пеньковской земле камень растет, как картошка. И это на земле, которая распахивается много лет. Сколько же камня будет на новине? Сколько надо труда, чтобы его окучить и свезти на межи?
Об увеличении площадей под кукурузу никто не хотел и слушать. И опять-таки это объяснялось серьезными причинами: для удобрения нужно сейчас же, под зяблевую вспашку, вносить навоз, а его, как всегда, не хватало. В общем, от наметок Тони почти ничего, кроме сокращения ячменя и введения вико-овсяной смеси, не осталось.
«Ну и ладно, — думала она, едва сдерживая слезы, — Ну и ладно… Пускай сами делают. Посмотрим, что получится…»
План обсуждали до поздней ночи.
В конце концов решили план переделать и в помощь Тоне выделили Евсея Евсеевича, Тятюшкина и Леню Войкова.
Люди поднялись было, чтобы расходиться, но Тоня сказала, что есть еще один срочный вопрос — строительство клуба, — и попросила остаться.
— Поздно, пожалуй, — протянул кто-то.
— Вы и план не хотели обсуждать, — сказала Тоня, — пока не дождались постановления. А вот будет постановление насчет культуры, тогда увидите…
Члены правления неохотно сели.
Тоня просила начислить строителям хотя бы немного трудодней. Кроме того, она подала заявку на материалы, необходимые для завершения строительства. Среди позиций, перечисленных в заявке, были обои.
Прочитав вслух количество рулонов, Иван Саввич с сомнением покачал головой, заметил, что заявка такая же нереальная, как и план, и прозрачно намекнул, что, кроме клуба, этими рулонами можно оклеить еще одну избу.
Тоня вспыхнула. Она оказала, что объемы работ подсчитывал секретарь комсомольской организации. И если правление не доверяет комсомольцам, она готова хоть сейчас пойти с кем угодно и лично все перемерить.
Было двенадцать часов ночи. Никто идти не согласился. Иван Саввич посоветовал отложить промер на следующий день, но Тоня понимала, что председатель хочет положить заявку под свое толстое стекло.
— Тогда я пойду одна, — сказала она и вышла на улицу.
Ночь была студеная, светлая. Снег мерцал на дороге и скрипел под валенками Тони на всю деревню. По чистому небу, из конца в конец озаренному лунным и земным светом, летел самолет. Все уже спали, только у полуночника Тятюшкина топилась печь, и плотный березовый дым, освещенный с одной стороны луной, тянулся вверх, долго не растворяясь в неподвижном, заледеневшем воздухе. Самолет мурлыкал над головой, но его не было видно, только красная и зеленая звездочки тихо плыли на запад, к Ленинграду. И Тоня вспомнила ту ночь, когда ехала в Пеньково, и ужаснулась, подумав, какой далекой кажется ей эта ночь и каким бесконечно длинным недолгое, прожитое в Пенькове время. Ей вспомнилось покойное купе скорого поезда, женщина, любившая Гамсуна, инженер в носках, и впервые за все время она позавидовала им, ей самой захотелось ехать, все равно куда, только ехать, на поезде или на самолете, только ехать, двигаться, двигаться…
В сущности, она так и не прижилась здесь по-настоящему, так и не сошлась с людьми, и жизнь ее тянется отдельно от общей жизни колхоза, как этот дым из трубы, не смешиваясь с воздухом.
И хотя колхозники относились к ней с уважением, но и уважение у них не настоящее, а снисходительное, какое полагается воздавать ученым людям. Вот она говорила о трудностях на строительстве клуба, просила начислять ребятам трудодни, и ее слушали с уважением, но без сочувствия, слушали и думали о своих семьях, думали о том, что если без толку разбазаривать трудодни, то в конце года всем на круг меньше достанется. Она просила денег на обои, а они думали о том, что нечем кормить скотину и надо где-то изыскивать средства на покупку сена. Какие уж тут обои! У них свои серьезные нужды, серьезные заботы. Вот она решила ночью идти измерять периметр клуба, и все понимали, что это ребячество, но никто не остановил ее, никто не сказал, что это глупость.
Наверное, и не дождутся ее, посмеются немного и разойдутся по избам, к своим мужьям и женам, поужинают и лягут спать. А у нее нет даже человека, которому можно пожаловаться, рядом с которым поплакать.
— А вот все равно пойду и смерю, — ожесточаясь, шептала Тоня.
Скрип ее шагов уже отзывался трескучим эхом в голых стенах — она подошла к клубу.
Тоня с детства боялась темноты нежилых и неустроенных мест. Но тоска одиночества в этот момент была так сильна в ней, что заглушала все другие чувства, и, ни о чем не думая, она поднялась по чуракам, набросанным возле дверного проема, внутрь.
Старая половина здания была покрыта кровлей, а на другой, пристроенной половине только еще поднимались стропила. Тоня промерила сперва наиболее трудную, темную часть, затем прошла в пристройку. Пол там еще не был настлан, и доски, припорошенные снегом, в беспорядке валялись на лагах.
Осторожно пробуя ногами, где ступить, чтобы не провалиться, Тоня начала мерить и вдруг услышала за стеной какое-то шевеление.
— Кто тут? — спросила она, замирая от страха. Никто не отвечал. Но легкий шум повторился.
— Кто тут? — снова спросила она одновременно пугающим и испуганным голосом.
В проеме показалась темная долговязая фигура человека с мешком в руке. Человек спрыгнул вниз и нескладно прислонился к стене.