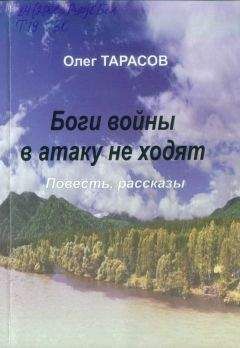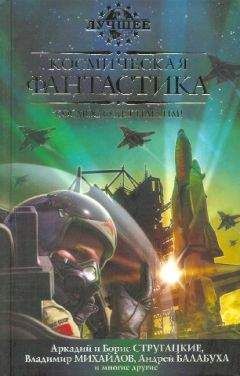…Не скоро угомонилась деревня от Дуриковой удачи. Перессорились промеж собой жители, искричались в догадках — кто же тянул билет: сам Дурик или отличник; был ли он вообще — этот выигрышный билет, потому как кто-то видел Дурика с большим кошельком в райпотребсоюзе и тот отсчитывал там крупную наличность. Вот такое странное сотворилось дело: хочешь — верь, хочешь — не верь, хочешь — кричи, хочешь — молчи, а у Дурика во дворе новенький «Днепр»! Чёрный, как аспид! С задней скоростью!
Дурику — мотоцикл! Сельчанам — великое потрясение! Лo-терее — польза, поскольку три спешно привезённых в деревню коробки разлетелись, словно воробьи от артиллерийского залпа. И всё бы хорошо, да только желанное приобретение обернулось вскорости Дурику серьёзным несчастьем.
Случилось это через год, следующей весной, в пору схождения снега. Нёсся спешно Дурик на своём железном коне и аккурат за околицей увидал посреди дороги белую горку в гнилой соломенной трухе. И подумалось ему, что это не иначе как кучка рыхлого снега, и решил он эту кучку под люлькой пропустить… «Шваркнуть в брызги!»
Шваркнул… об глыбу прочного льда… Когда очнулся — мотоцикл колёсами вверх, люлька на нём. И как будто не люлька, а стотонная махина: телом пошевелиться — ни-ни! Корчился Дурик всеми членами, какими мог, пробовал ужом из злосчастного капкана выползти — никак не способен организм с напастью совладать! Голова при деле, соображает, а всего остального будто и в помине нет. Что там рукой или ногой шевельнуть — крика о помощи не выдавить! Собственному языку не хозяин!
Уж стемнело, холод насел, такое окоченение тело охватило, что через час-другой смерть пришла бы наведать! Хорошо, конюх на своём Гнедке по дороге проезжал — углядел в сумерках несчастного. Поднять мотоцикл дедуля не смог, но бездвижного Дурика кое-как выволок. Смекнул конюх, что раненого на лошадь не посадить, что врача к месту надо, нацелился скакать в больницу. А чтобы не замёрз покалеченный Дурик, от недалёкого стожка соломы притащил, запалил. Запалил да поскакал. Кто б знал, что с перевёрнутого бака к пылающей соломе струйка бензина потекла…
Но спасся от верной гибели Дурик, Бог знает, каким чудом спасся. Неимоверным устремлением заставил себя ползти, отдалиться от смертоносного огня. Да только когда «скорая помощь» приехала, сапоги на нём всё ж горели.
Ох и задал он в больнице своим положением хлопот: сверху, на поломанной ключице, гипс, внизу — голени в ожогах, промеж всего этого — тяжёлая поясничная контузия! Один только язык в полной зудящей свободе — отпустило у него язык, да так, что врачихам и медсёстрам от колкостей и поддёвок спасу не было. И хорошо, что отпустило, может, через этот самый неугомонный язык и вернулся в мир Дурик. В общем, оклемался, встал на ноги без увечий — прежним добрым молодцем. Про мотоцикл забыл — что там от погребального костра? На металлолом даже не сдашь.
А некоторым селянам облегчение от такой нехорошей концовки вышло — подхватились, зашептали радостно, мол, не бывает бесплатного сыра в мышеловке-то! Есть, мол, справедливость на белом свете, чуть не подавился Дурик дармовщиной! И шутники покуражились над Дуриком. Какие-то острословы, видать, просвещённые, фразу мудрёную придумали: «Редкая льдина проскочит в середине «Днепра»!»
Многие заливисто смеялись от этих слов, а Дурик, когда их слышал, так и не понимал, над чем смеются. А впрочем, что ему теперь «Днепр» — он с недавних пор к лошадям предпочтение заимел.
Кряжистый, мышиного цвета автокран тянул своей стрелой кусок железобетонной берлинской стены, а буйная, разгорячённая толпа ликовала так, словно ей здесь и сейчас открывался выход из долгого казематного заточения. Светлые людские надежды имели право на существование падение ненавистной преграды, разделявшей прежде единый немецкий народ, непременно должно было отозваться разительными переменами…
Полковник Решетняк, командир N-ского полка, что дислоцировался неподалёку от Бранденбурга, тоже думал о переменах, но занимало его отнюдь не крушение социалистической Германии и не какая ещё глобальная проблема — подобной чепухой мозги он никогда не забивал. Всем своим вниманием полковник обратился к житейским слухам: поговаривали, будто марка братской ГДР скоро заменится валютой забугорной — полноценной, ликвидной. И если те настоящие «шевелюшки» заполучить — очень здорово своё материальное положеньице поправить можно! Если, конечно, с толком в голове! Однако сколько твёрдой валюты за воинский долг платить будут? И каким курсом старые купюры менять? А то под кроватью сумочка лежит, с Божьей помощью бумажками гэдээровскими набитая…
Они тоже неплохи, но какой дурак не знает, что «Мерседесы», всякие там «Грюндики-хрюндики», «Адидасы-барабасы» штампуют не верные последователи марксизма-ленинизма, а гнилой Запад? Как-то вот сложилось исторически, что у пособников империализма в этом деле рука вернее и товар качественнее. Ну какая ГДР с настоящей «фирмой» сравнится? «Трабант» и «Мерседес», например? Это ж умора — пластмассовое корыто и король автомобильного царства!
А «Мерседес» для Решетняка не просто давняя мечта — авто с тремя окольцованными лучами для него почти что святыня, икона. Но не та икона, на которую люди молятся, а та, которую он наметил к рукам прибрать. И получится у него прибрать, потому как способный он очень стяжатель — патологический и откровенный.
За это стяжательство подчинённые Решетняка не любили, и большим числом даже презирали. И совершенно справедливо презирали, ибо ни одна душа не посмеет себе явный плюсик заработать, пока единственное мерило каждому шагу — личная корысть. Для благородных позывов материальная страсть как многотонный дорожный каток для цветка: разотрёт в пыль — и не почувствует, не дрогнет. Много чего на своём пути растирал в пыль Решетняк и с сомнениями назад никогда не оглядывался, офицерское осуждение — безмолвное ли, кулуарное ли — на личный счёт не принимал. Он больше в свою сумочку-шкатулочку посматривал, нажитыми финансами услаждался и через ноли с палочками видел счастье своё и земное назначение.
Сквалыжность, гобсековская цепкость отразились у Решетняка и в наружности: невысокий, угловато-кривовато скроенный — от «монгольского» развала ног, между которых вершковое бревно без задоринки просвистит, до сбитого влево набухшего носа. А уж когда в комплекте выпученные, тревожно скачущие чёрные глаза, поддавленные изнутри жаждой всем владеть, да два передних косых зуба, хищно прикусывающих губу, — зрелище не для тонкого вкуса!
Характерное прозвище Рублик за офицером тянулось давним цепким хвостом: когда-то, ещё в капитанские года, после попойки, сослуживцы подсунули ему на дорогу бумажный рубль, привязанный к нитке, и из-за кустов, всей толпой наблюдали, как метался он за этим рублём, будто угорелая кенгуру, кланялся заманчивой бумажке вялым, неустойчивым телом и даже грёб вдогонку чуть не на четвереньках — пока не понял пьяной головой, что это розыгрыш…
Пристрастие Решетняка к детищам чужого автопрома очень напористо подогревал прапорщик по фамилии Бакуха, состоявший при командире самым что ни есть доверенным лицом. Клеврет особого назначения, которого шеф вслед за собой вытянул в ГДР, был слеплен природой ловким классическим прихлебаем — обычный тип недалёкого, пребывающего себе на уме лентяя-приспособленца, вроде предан, а не дождёшься, чтоб и малую часть души своей за товарища или благодетеля положил; вроде и дурак непроходимый — по виду и рассуждению, а на глупости себе в убыток его не подловишь; иной раз покажется, что и на благой ниве работать может не хуже всех, а он ни одному общественному делу ладу не даст!
Годами Бакуха был помоложе своего благодетеля, зато ростом и плечами — выше, шире, осанистей. В лице ничего примечательного — крупные черты, большие, раскрытые глаза с самодовольной, бестолковой поволокой и вздёрнутый кверху нос — ядрёный, налитой, с маленькими круглыми ноздрями.
Пронырливого порученца не жаловали что «братья»-прапорюги, что офицеры, а тот как ни в чём не бывало рядился в своего парня: заискивал перед общей массой, с дешёвым театральным надрывом плакался на несносную жизнь. Стенания его сослуживцы за редким исключением слушали молча, отстранённо, а вслед значительно ухмылялись — как же, перетрудился Бакуха! По нарядам, сволочь, не ходит — по личному распоряжению Рублика освобождён от такой чести! Построения тоже не для него, потому как всё по особым поручениям: разузнать где-чего, вынюхать, шепнуть-доложить, съездить куда укажут, щепетильное дельце провернуть. Вот бакухинские труды и тяготы, в которых самое главное — себя не забыть!
Оценки его чужой жизни, службы, поступков заключались в одной, как ему казалось, глубокомысленной и меткой фразе: «нечего было с лошадиной дозой собственную мерку производить». Где там доза, к чему она была мерой произведена и отчего непременно лошадиная — оставалось загадкой даже для самого бойкого полкового ума. Пробовал кое-кто и философию в тех словах отыскать — ан, нет, поди, уцепи ниточку там, где ни единого намёка на свободный конец, всё сплошь «Мёбиус»! Прозвали Бакуху Лошадиной Дозой, на том и успокоились.