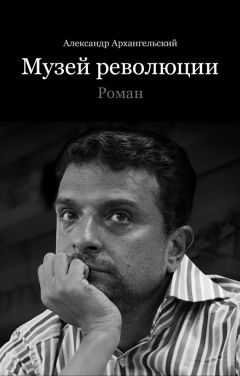— Я не из трусливых, Федор Казимирыч. Только что ж мы будем размораживать котлетки? У нас сегодня свежая козлятина в сметанном соусе. Мои колхознички старались, выращивали. Вы ведь не побрезгуете, верно? Вот и чудненько, а вашу кабанятину отправим в карцер, пусть полежит пока что в морозильнике.
9
Начальник охраны вытащил из рюкзака младенчески спелёнатый кулек брезента, расстелил его на мелком шлаке, набросил сверху невесомый синтепон, чтобы сырость не вытягивала силу, экономно отключил фонарик, и только после этого нажал на кнопку рации.
— Беркут, беркут, я сокол, прием.
Хрип, шебуршение.
— Беркут…
Хрип, шебуршение. Словно с ними разговаривала пустота.
— Да разве в шахте может быть сигнал?
— У нас по норме безопасности протянуто, — невнятно буркнул Петрович. — Беркут, Беркут…
— Выруби хрипун, — приказал ему Ройтман. — Толку никакого, только действует на нервы.
Охранник подчинился, их с головой накрыла тишина. Больше ничего не грохало и не ссыпалось, земля как будто впала в кому. Полагалось, наверное, думать о жизни и смерти, на худой конец жалеть о том, что счастье ускользнуло, снова поманило, и опять исчезло. Владе он теперь не позвонит. Но ничего подобного не думалось. А думалось про то, что под ними вращается магма, на серое здание шахты валится снежная лава, а они застряли в сырой, непрогретой норе, и больше ничего от них не зависит, теперь как сложится, так сложится: судьба.
— Историк, — не выдержал Ройтман. — А сколько времени уходит на составление генеалогии? В среднем? Навскидку?
— Я этим никогда не занимался…
— Напрасно.
— …но думаю, что полная, подробная — до года.
— Слишком долго… Мне нужно до завтра.
— Мало ли, что мне нужно до завтра?
Саларьев отвечал не церемонясь. Все чины и звания остались там, наверху, где безнадежный снег, а здесь они были равны.
Михаил Михалыч потрясенно помолчал. Кажется, ему не приходило в голову, что у кого-то могут быть отдельные, свои проблемы, никак не связанные с жизнью Ройтмана.
— А тебе-то что может быть нужно?
— Завтра я должен был улететь в Красноярск.
— Сделка горит?
— Да какая сделка?! Свидание у меня там.
— Ааа. Тогда не беда, свидание подождет.
— Да что ты можешь понимать в свиданиях? — гнев поднимался быстро, как давление во время приступа. — Оно первое, ясно тебе? И я из-за этой сволочной погоды ей не позвонил, не предупредил, а теперь и вообще…
Так с богом разговаривать никто не смел; Петровичу хотелось встрять, одернуть обнаглевшего историка, но приказа одергивать не было.
Ройтман добродушно и почти заботливо ответил:
— Не шурши, не шурши. Если выберемся, дам тебе и позвонить, и самолет, он с хорошей навигацией, прорвется. А если не выберемся… придется нам тебя, историк, скушать.
Шутка прозвучала слишком натурально; и ведь если что, действительно, съедят.
— Не знаю, ты поймешь меня, или не сможешь? Как сказать… ты, историк, не знаешь, что такое в детстве быть пархатым.
И нервно, рублеными фразами, короткими, как подростковые затяжки на морозе, Ройтман стал рассказывать — о папе, о маме, о спрятанном и выкраденном дневнике, о чеченах в соседнем дворе, об унижении в немецком консулате… Оборвал себя он так же неожиданно, как начал: то ли устыдился слабости, то ли счел, что все уже и так понятно. И с привычным напором спросил:
— А все-таки какая девушка? хорошая? Не боишься, что лимитчица, на шею сядет?
— Это я скорей лимитчик, а она… В общем, все не слава Богу… Слушай, если можно, только ты не обижайся, давай мы про нее не будем?
— Давай. Но про что тогда будем? — Ройтман тоже решил разозлиться. — Про вчерашнего осла уши? Ты понимаешь, карлик хренов, что мы влипли? И если не вылипнем, будем долго дохнуть? Ты когда-нибудь видел трупы из завала? Не в гробу, под слоем штукатурки, красивеньких таких, как мумии в твоем музее, а выложенных штабелями, на кафеле, возле подъемника? Ты… кукловод несчастный? Тебе рассказать, как кости торчат из гниющего мяса? Острые такие, белые? А мясо черное? Про оскаленные зубы рассказать? Ах, не надо, не нравится… А про запах? Нет, не хочешь? Тогда сиди и говори про бабу. Молчать запрещено. Иначе потеряем форму. А так — переждем немного, не тряханет — попробуем пробиться к выходу.
— А если тряханет?
— Тряханет — тогда и будем думать.
10
А повар у Петра действительно прекрасный. Веселые мелкие рыжики, ржаные хлебцы на хмелю, маслянистые, сияющие счастьем пирожки, сладостное тельце белорыбицы, на горячее божественно прозрачная уха, оттянутая паюсной икрою, с нежной розовой морковкой и девически цельной стерлядкой.
Между прочим, про козлятину владыка не шутил: очень был нежный козленок. А никаких монашеских ограничений — не было; епископ с удовольствием вкушал мясное. Ел он по-старинному, упорно сдавливая челюсти; современный человек нарезает блюдо тонкими кусками и кладет их на язык, как клали папиросную бумагу на картинку, жадно продолжая говорить, а владыка выбирал куски большие, сытные, сопел и замолкал надолго, склоняясь над тарелкой. Дожевав очередную порцию, откидывался и минуты три-четыре рассуждал о том, как хорошо бывает попоститься после мясоеда. Очищал соленый помидор, опять сосредоточенно жевал. Жаловался на туристов, которых заставляют принимать на территории монастыря (памятник архитектуры, понимаешь):
— Ходят тут толпой праздношатаи, кто лошадку угостит мороженым, чтоб у нее бока потом раздуло, кто свинью одарит шоколадом, а кто и курочку усыновит, в сумку ее раз, и нету курочки.
И снова нависал над пищей.
Было вкусно, хорошо, уютно, и лишь одно смущало Шомера: в углу просторной кухни стоял голодный секретарь, и старался не смотреть на стол, уставленный закусками. По властному жесту владыки разливал по мелким стопкам разноцветные настойки и тут же возвращаясь на свою стоянку. Они уже как следует поддали; начав зеленоватой, пахнущей летом смородиновкой, неспешно добрались до розовой перцовки и чесночного «еврейского» настоя, а под конец расслабленного ужина отведали и самогонки, со сладким оттенком айвы.
Теодору было трудно говорить; язык его совсем не слушался, а слова упорно не желали вспоминаться. Приходилось ограничиваться рубленными фразами. Подлежащее, сказуемое, точка.
— А как намерен помирать? — обыденно полюбопытствовал владыка. — Думал уже, или все на потом?
— Конечно, думал. Как не думать. Есть место. Рядом с мамой, папой.
— А кому завещаешь ухаживать? Дети небось по столицам?
— Что называть столицами… неважно. Я оплатил аренду. Сам. Девяносто девять лет. А там посмотрим.
— Молодец, похвально. А кремироваться будешь или как?
— Кремироваться не хочу. Так лягу. Сам собой. Как есть.
— Совсем хорошо. А то ввели сегодня моду, забирают жаркое в горшочке, ставят, представляешь, Федор, дома на полочку. На по-лоч-ку. Язычники. А меня положат здесь, в монастыре. Хорошее место, в ограде. Боишься умирать? только честно.
— Не хочу. Но не боюсь. Я не узнаю. Меня отключат… от розетки. И всё.
— Нет, Федор, ты не прав, не всё! Я точно знаю, что не все. — Глаза у Петра загорелись; он энергично подался вперед, стал горячо дышать в лицо. — А вот как я буду умирать, не понимаю. Думаю, думаю... Ты в открытом бассейне бывал? Зимой?
— Не бывал.
— Нет, а ты побывай. В душевой распаришься, из нее в холодный коридорчик, а из коридорчика в такую… как сказать… купель. Подныриваешь под загородку, вода обжигает, ух, она такая… тяжелая, как сдавит, открываешь глаза, зеленая муть! Но выныриваешь, а вокруг дымится пар, круглые головы в резиновых шапочках… неземное… вдыхаешь полной грудью…
— Понял. Это рай. Но неприятно. Не хочу.
— Да при чем тут рай! — по-детски обиделся Петр. — Я тебе про то, как будем умирать, а ты… Вообще, запомни: в этой жизни только смерть и интересна.
И Теодор не смог не согласиться. Хотя он, кажется, эту мысль уже встречал. Наверное, какая-то цитата.
— Слушай, — глаза епископа слегка пригасли, но какой-то странный отблеск все же сохранился. — А давай посмотрим нашу лавочку. Ярослав, неси ключи.
11
Лавочка располагалась в боковой пристройке; в нее вел низкий, узкий коридор, хило высвеченный старой лампой. Зато торговый зал сверкал, как дворец бракосочетаний; с потолка свисала люстра, наподобие паникадила, а в торговых витринках, чересчур напоминающих музейные, прощально возлежали лаковые строгие ботинки, сияющие чистотой рубашки, ленинские галстуки в горошек, пиджаки вороньего крыла, чернильные платья с молочными воротничками, наборы белых тапочек, траурные повязки, платочки, темные очки.
— Ну что, ну как? Моя идея! — похвастался владыка Шомеру. — Как-то ночью не спалось, и вдруг подумалось: а ведь покойников-то надо хоронить! В смысле обряжать. А если у кого-то нет готового костюма? А вдовам где вуальки брать? Никто ж другой не позаботится. Значит, надо нам заняться. И ты знаешь, Федор, дело-то пошло! Из города едут, заранее звонят, ну, когда уже все ясно… чтобы нужный размер подобрали.