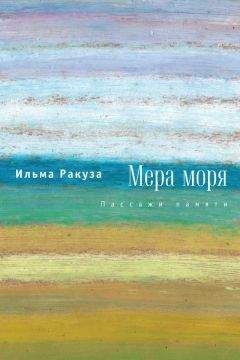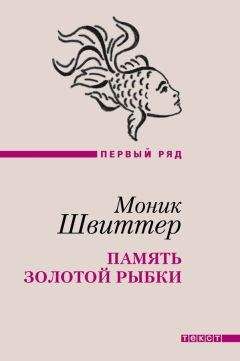С той поры за мной началась слежка. Я все время замечала в отдалении серую фигуру, ждала ли я автобуса на остановке после концерта с Алексеем или шла к дому Ефима Григорьевича. Гэбэшники были в курсе всего. В Москве они ходили за мной настолько бесцеремонно, что однажды – на этот раз их было двое – вошли со мной в лифт и, когда я нажала кнопку, в один голос сказали: «Правильно!». Мои друзья, именитые литературоведы, были обеспокоены. Они беспокоились обо мне, в то время как я опасалась, что это повредит им. Своенравной и уже пожилой Надежде Яковлевне Мандельштам было все равно, у нее часто бывали гости с Запада. Приняла она меня лежа, на убранной по-восточному кушетке, грызя семечки и задав прямой вопрос: вы верите в бога? И только получив утвердительный ответ, снизошла до беседы.
Гэбэшники внизу, до последнего. Хотя было холодно. Я взяла такси, ускользнула от них на несколько часов. Пока меня у дверей одного «известного в узких кругах» поэта-концептуалиста не перехватили два других товарища «в сером». Здесь была вечеринка со всякими странными личностями, с чтениями типа перфоманса, с необычным угощением. Соглядатаям было чем заняться.
Соглядатаи. В какой-то момент они мне так надоели, что я на несколько лет – с тяжелым сердцем – предоставила Россию самой себе.
Чтобы вернуться после «перестройки». Ленинград уже называется Санкт-Петербургом. Блещет ресторанами, магазинами, отелями, бесчисленными кафе. На доме, где жил Бродский, запертый в своих «полутора» комнатах, висит памятная доска, у Анны Ахматовой в Шереметьевском дворце, что неподалеку, музей. И даже о Набокове помнят: роскошная квартира на Морской улице, принадлежавшая семье Набоковых, теперь тоже музей. Книжных магазинов – кучи, их ассортимент покрывает все, в таком порядке: царизм, православие, эзотерика; фэнтэзи и детективы; зарубежная и отечественная беллетристика (от Набокова до Гришэма); психологические руководства; кулинарные книги; путеводители. Многие магазины работают до часа ночи.
Только времени теперь ни у кого нет. У всех свои фирмы (у Миши свой собственный небольшой театр), все бегают, приклеившись к мобильным телефонам. Стоят в пробках. Время есть у обнищавших пенсионеров, у нищих и побирушек, которые теперь почти повсюду. Уличные дети со стеклянным взглядом. Заряжены на обирание туристов. Кто хочет, может называть это возвращением к нормальной жизни. Но нормальным этот Петербург не назовешь. За вылощенным фасадом идет разложение. Криминальные группировки делают город небезопасным.
Нет, я никогда не прощалась. И Ленинград был особенным счастьем.
Счастьем?
В то время – да. Счастье как спокойствие, ситный хлеб, серый гусь. Я узнала, что такое дружба, и как это хорошо, трапеза у могилы. И калорийность слов. (Поэзия как минимальный рацион.) И шкала освещенности, когда день не кончается.
Прекрасно.
И многоголосие какого-то другого, нецеленаправленного жизненного плана.
И никаких сожалений?
К чему? Пусть даже времена и изменились.
Утрату Ленинграда и Лены я ощущала долго. В моем списке потерь они располагались на самом верху. Иначе было с невозвратимыми потерями: с комнатой для сиесты моего детства, с белыми гольфами (к началу весны), с Кестье, моей меховой варежкой.
Я скучаю по знакомому, тоскую по незнакомому. Я человек ущербный. (А кто из нас другой?) Всегда чего-то не хватает. Грелки, тенистого дерева, моря (определенного), папы (он на своей, потусторонней лыжне). Финиковых деревьев, превратившейся в степь возвышенности, крепкого плеча. Времени.
Что мне делать с безжалостной фразой: «Меланхолические барышни закончились навсегда». Словно Монголия уже и не вариант, словно желания и мечты забаррикадированы.
Туда, туда, на восток и еще восточнее. Темная рифма названий: Иран, Азербайджан, Афганистан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан. И воображение включается в работу. И не остановится, пока не сложится чудесный образ.
Купола мечети (бирюзовые), шелковые халаты (с узором икат), базары, где продают ковры и пряности. Черное молоко. Светлые метелки тростника. Солончаки. Границы, контрабандистские тропы я опускаю. Но только не женщин в их черных покрывалах. Не девушек в ярких туркменских нарядах. Что-то зовет, зовет уже давно. Шелковый путь. Te Silk Road. Может быть, Марко Поло так подействовал на фантазию ребенка.
Я заскочила туда ненадолго, еще до Ленинграда, «Аэрофлотом» в раскаленный Ташкент, в самое сердце Узбекистана. Хотела посмотреть овеянные легендами Самарканд и Бухару, но «Интурист» отказал. Njet так njet. Чайханы в Ташкенте были слабым утешением. От жары кружилась голова. Воды в гостиничном душе либо вовсе не было, либо шла только горячая. Воздух как в печке, вперемешку с пылью. С желтоватым песком. Иссушающий.
Дальше путь лежал в Алма-ату, в зеленую казахскую столицу. Парки, парки, фонтаны, вокруг огромные плантации фруктовых деревьев. (Алма-ата по-казахски «отец яблок».) На заднем плане, как театральные декорации, выстроились белые громады гор. Здесь веяло свежим воздухом и по рынкам бродили тысячи самых разных действующих лиц: казахи, киргизы, узбеки, уйгуры, в фетровых, барашковых, расшитых шелком шапках (тюбетейках). Русские с непокрытыми головами. Джамиля, хрупкая переводчица, проворная, как белочка, показывала мне улицы и площади. Указательный палец ее правой руки ни секунды не оставался без дела. Вот, вот, вот и там, там, там. Она гордилась своим полным жизни, цветущим городом. Рассказывала о поездках в горы, сосновые леса, ручьи, скалы и снег, и о том, что жара не так уж невыносима, и что вообще-то вода всегда есть.
Во время полета из Алма-Аты в Тбилиси мизансцена пустыни: коричневый цвет без конца, с отдельными зелеными прожилками, сверкающая гладь Аральского моря, с высохшими и засоленными краями (слепящая белизна, окаймленная розовым), песчаные дюны, прорези дорог. Мы летели низко, воображение рисовало мне верблюдов и перекати-поле. И бурые глинобитные поселки. Где-то в дымке притаилась Самарканд, Бухара, Хива, Ургент, которых меня лишили. Проехали. Медленно опускалось солнце над Средней Азией. Каспийское море было в сумерках не различить. Тбилиси: черная ночь.
Утром я проснулась в другом мире. Среди зеленых грузинских холмов. Маленькие домики Старого города с балконами и отделанные фахверком, на первый взгляд казались турецкими, а каменные церкви – раннероманскими. И опять не так. Все пульсировало между знакомым и чужим, не желая укладываться в клише. Гвили, чернокудрый студент-филолог, знакомил меня с грузинским языком: забудь о своем индоевропейском мышлении, о том, что подлежащее в предложении всегда стоит в именительном падеже. А у нас он стоит в эргативном! Но по-настоящему голова у меня пошла кругом, когда он начал перечислять сорок языков кавказского региона: абхазский, адыгейский, мингрельский, кабардинский, лакский, осетинский, сванский… Ох. Разве музыка не понятней, спросила я. И в тот же день купила пластинку с кабардинскими танцами с саблями. Безумно зажигательными.
Невозможно забыть их гостеприимство, ужин с родственниками и друзьями Гвили, который продолжался до полуночи. И не только из-за множества изысканных кушаний (фасолевый суп, долма в виноградных листьях, овечий сыр, шашлык из барашка, курица с острыми приправами, овощи с изюмом, виноград, инжир, арбузы), но и из-за того, что рог, наполненный тяжелым грузинским красным вином, поднимался непрерывно, под долгие тосты. Гортанно переливаясь, пышно текла речь, и, даже не понимая ни слова, я знала, что она поэтична. Мы любим прекрасное, сказал Гвили. И времени не жалеем. Да и с чего бы это им, этим мастерам застольных речей, которые больше опьянялись словом, чем вином. И до самого последнего, сердце к сердцу, объятия. На брудершафт!
Путь это путь, это пыль под ногами. Даже если в памяти когда-нибудь смешаются радости и горести, прочитанное и пережитое.
Любопытство привело меня, десятки лет спустя, в Иран. На края Большой соляной пустыни (Деште-Кевир), в зороастрийский Язд, в Тегеран, Керман, Исфахан и Шираз. Любопытство и желание наверстать упущенное. Исфахан должен был стать компенсацией за Самарканд. (Голос ребенка, который настаивает на своем праве.)
Там и тогда – авторитарный режим Советов, здесь – авторитарное исламское государство. Но охота пуще неволи. Ландшафты и древности все равно говорят на другом языке.
И я их нашла: прокаленные солнцем глиняные минареты, облицованные бирюзовыми и синими фаянсовыми плитками купола мечети, айваны, дворы и медресе, дивящихся и молящихся паломников, невозмутимый люд с лавашами подмышками на ужин. Рамадан, поступь жизни тиха. До захода солнца, который мгновенно привнесет движение. Вдруг все вокруг начинает шевелиться, перед лавками образуются очереди, и те, кто не готовит праздничную еду дома, устраивает пикник, в парках, на расстеленных платках.