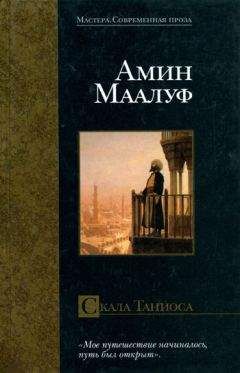Таниос указал пальцем на четырех молодцов в первом ряду толпы, своих товарищей по приходской школе:
— До завтра охрана Рукоза поручается вам. Отведите его в старые конюшни!
Достойно управившись с этой последней властной функцией, он удрал. Кюре и Кохтан-бей тщетно пытались удержать его — он выскользнул и скрылся чуть ли не бегом.
Снаружи за это время уж смерклось. Таниосу хотелось, выйдя из замка, побродить, как когда-то, по пустынным тропам, подальше от домов, от пересудов, в одиночестве. Но поселяне в тот вечер встречались всюду — возле замка, на перекрестках, в проулочках. И каждый хотел поговорить с ним, дотронуться до него, сжать в своих объятиях. Как бы то ни было, для них он — герой праздника. Но в собственных глазах он являл собой всего-навсего жирного барана для заклания.
Он отступил назад, поблуждал по неосвещенным коридорам, дошел до того крыла замка, где некогда жил со своими близкими. Все двери оказались незапертыми. Через окно, выходившее на долину, проникал красноватый свет. Главная комната была почти совсем пуста — только на полу несколько запыленных подушек, да комод, да ржавая жаровня. Он ни к чему не притронулся. Но подошел к жаровне, склонился над ней. Ибо среди всех воспоминаний, тягостных и сияющих, что теснились в этих стенах, им вдруг овладело самое пустяковое, одно из самых забытых: однажды зимней порой он был дома один, выдернул из одеяла толстую льняную нить, окунул ее в пиалу с молоком, сперва подержал над углями, потом уронил и смотрел, как она тлела, чернея, потом краснея, слушал, как она потрескивает, и вдыхал этот запах жженого молока вперемешку с паленым льном и дымом жаровни. Этот именно запах преследовал его с тех пор, как он сюда вернулся.
Он так и замер, склонившись над жаровней, потом выпрямился и, полуприкрыв глаза, прошел в соседнюю комнату. В ту, где когда-то спали на полу Ламиа и Гериос. А он — немного повыше, в своем алькове. Это убежище было не более чем сводчатой нишей, но зимой там скапливалось все тепло дома, а летом — вся его свежесть. Здесь проходили ночи его детства, здесь он затеял свою голодовку, и здесь же он ждал, чем закончится посредничество патриарха…
С тех пор он часто думал о той лестнице в пять ступеней, по которой тогда взобрался Гериос, — она и поныне стояла, прислоненная к стене. Он поставил ногу на ступеньку, с предосторожностями, уверенный, что теперь она не выдержит его веса. Но она не переломилась.
Наверху он обнаружил свой матрац, такой тонкий, завернутый в кусок старого драного сукна. Он его развернул, медленно разгладил, потом улегся, вытянулся, упершись макушкой в стену. Примирившись со своим детством и молясь, чтобы мир позабыл о нем.
Час пролетел в черном безмолвии. Потом дверь открылась, закрылась снова. Отворилась другая. Таниос навострил уши, но был абсолютно спокоен. Последовать за ним в потемках и обнаружить его в этом укрытии мог лишь один человек. Ламиа. И она же была единственным человеком, с которым ему хотелось поговорить.
Она подошла на цыпочках, взобралась до середины лестницы. Погладила его по голове. Спустилась обратно, чтобы разыскать в старом сундуке одеяло, и, вернувшись, укрыла ему ноги и живот, словно он еще был ребенком. Потом уселась на низкий табурет, прислонившись спиной к стене. Теперь они не видели друг друга, но могли говорить, не повышая голоса. Как когда-то.
Он собирался задать ей кучу вопросов о том, что она пережила, о том, каким образом до нее доходили лучшие и худшие вести… Но она хотела сперва сообщить ему, какие слухи поползли по селению.
— Люди судачат не умолкая, Таниос. У меня по сто цикад в каждом ухе.
Молодой человек затем-то и удрал сюда, чтобы ничего этого не слышать. Но все-таки остаться глухим к материнским тревогам он не мог.
— И о чем же стрекочут эти цикады?
— Они говорят, что, если бы ты пострадал от вымогательств Рукоза так, как они, ты был бы не столь снисходителен к нему.
— Так скажи им, что они не знают, что значит страдать. Выходит, я, Таниос, не страдал от предательства Рукоза, от его двуличия, его лживых обещаний и разнузданных амбиций? Или, может быть, мой отец не по вине Рукоза стал убийцей, а моя мать не из-за этого осталась вдовой?
— Погоди, успокойся, я неправильно передала их слова. Они только хотели сказать, что, если бы ты был в селении, когда Рукоз свирепствовал здесь со своей бандой, ты не испытывал бы к этому человеку ничего, кроме презрения.
— А если бы я испытывал одно лишь презрение, я бы лучше исполнил свою роль судьи?
— Они еще говорят, что если ты сохранил ему жизнь, то лишь ради его дочери.
— Асмы? Она прибежала и бросилась к моим ногам, а я едва заметил ее. Поверь, мама, если бы в ту минуту, когда я произносил приговор, я вспомнил, как сильно я когда-то любил эту девушку, я бы задушил Рукоза собственными руками!
Ламиа вдруг резко переменила тон. Как будто ее миссия посредницы была исполнена и теперь она могла говорить от собственного имени:
— Ты сказал то, что мне хотелось услышать. Я не желаю, чтобы ты запятнал свои руки кровью. Довольно с нас преступления твоего несчастного отца. А если ты и спас жизнь Рукоза ради Асмы, никто не вправе поносить тебя за это.
Таниос привстал, опершись на локти:
— Говорю же тебе, это не из-за нее…
Но его мать продолжала говорить, не дожидаясь, пока он закончит фразу:
— Асма заходила повидаться со мной.
Он не произнес больше ни слова. А Ламиа продолжала, стараясь, чтобы ее голос звучал как можно ровнее и безразличней:
— Она выходила из замка всего два раза и только затем, чтобы прийти ко мне. Рассказывала, что ее отец снова пытался выдать ее замуж, но она никогда больше не поддавалась… Еще она говорила о вас, о ней и о тебе. И плакала. Она хотела, чтобы я снова, как раньше, поселилась в замке. Но я предпочла остаться у сестры.
Ламиа ждала, что сын станет ее расспрашивать, желая узнать побольше, но из ниши доносилось лишь сопение опечаленного ребенка. Боясь, как бы он вконец не расстроился, она заключила:
— Когда ты сидел в большой зале на месте шейха, я смотрела на тебя издали и думала: только бы он не вынес смертный приговор! Рукоз всего-навсего разжиревший плут, но у его дочки чистая душа.
Она умолкла. Подождала. Таниос все еще был не в состоянии говорить. Тогда она прибавила, как бы про себя:
— Вот только люди волнуются.
Он выдавил из себя, все еще жестко:
— О чем им волноваться?
— Они толкуют, что Рукоз наверняка подкупит этих парней, что его стерегут, чтобы они дали ему убежать. Кто тогда утихомирит жителей Сахлейна?
— Мама, у меня голова тяжелая, как мельничный жернов. Оставь меня сейчас. Поговорим завтра.
— Спи, я больше ни слова не скажу.
— Нет, ты ступай ночевать к хурийе, она, верно, ждет тебя. Я хочу побыть один.
Она встала; в тишине он явственно различал каждый ее шаг, скрип дверных петель. Ему казалось, что разговор с матерью успокоит его, а она только добавила ему новых треволнений.
Прежде всего насчет Асмы. За два года изгнания он если и думал о ней, то лишь затем, чтобы корить и изобличать ее. Дошло до того, что он уже видел в ней не более чем копию ее папаши, только в женском обличье. Под ангельской личиной — та же вероломная душа. В тот день она завопила в своей комнате, приспешники Рукоза сбежались, схватили его, измолотили кулаками и вышвырнули вон. Этот образ, отпечатавшись в памяти, заставил его проклясть Асму, и он изгнал ее из своих помыслов. И когда она бросилась к его ногам, умоляя пощадить отца, он на нее и не взглянул. А она, стало быть, в его отсутствие приходила к Ламии, утешала ее, и они говорили о нем…
Не был ли он несправедлив к этой девушке? Он вернулся к своим давно забытым воспоминаниям: тот день, когда в гостиной с незаконченной отделкой он впервые обнял ее, те мгновения бурного восторга от мимолетного касания их робких пальцев… Он уже не понимал, когда ошибался: в своей любви или в своей ненависти.
Душевная тревога убаюкала его. И тревога же разбудила. Несколько секунд прошло или целые часы? Он привстал, опираясь на локоть, повернулся, свесил ноги в пустоту, готовый спрыгнуть. Да так и застыл, изогнув спину, словно в засаде. Показалось, или он вправду слышал какой-то шум? Возможно, ему припомнились тревоги поселян. Так или иначе, после нескольких мгновений замешательства он спрыгнул и помчался к выходу, пересек замковый двор, выбежал на тропу, забирающую влево, к старинным конюшням. Было, судя по всему, часов пять утра. На земле, как при полнолунии, виднелись только черные тени да белые камни.
При этом неверном свете начался последний день в истории того, кого звали Таниос-кишк, — по крайней мере если его жизнь и продолжалась за пределами этого дня, больше о ней ничего не известно. Тем не менее я вынужден, прервав его бег, возвратиться назад, дабы поведать о событиях минувшей ночи. Я постарался восстановить их как можно точнее. И все же существует еще одна версия.