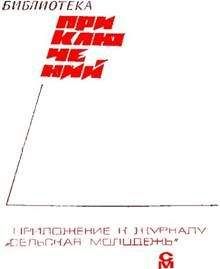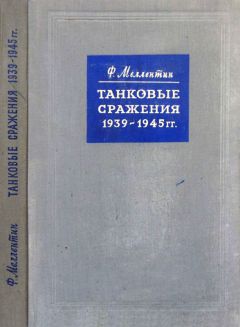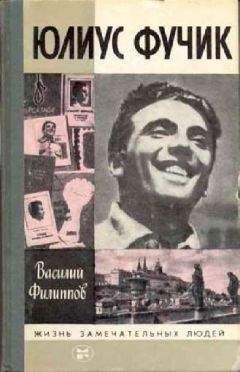Начали появляться беженцы из Испании. Они приходили в Люшон, но не через Кампас, а другими путями. Граница близ Кампаса была неприступной. Добравшись до Люшона, они растекались по долине, по ближайшим селам. Никому не приходило в голову карабкаться в Кампас. К этому времени население Кампаса заметно уменьшилось. Молодежь не оставалась там. Люди семейные перебирались вниз в поисках более плодородной земли. Мужчины находили работу на заводах внизу в долине, а женщины — в гостиницах. Много домов стояло заколоченными, и нотариусы без особой надежды вывешивали объявления об их продаже.
Колючий кустарник завладел селением, лес теснил луга. Старые тропы косарей и пастухов заглохли. Леса, которые раньше старательно очищались и в которых собирали листья на подстилки скоту, заросли терновником. Сорняки невозбранно заполнили поля. Старики вспоминали, что прежде из долины можно было видеть дома Кампаса — на склоне горы они выделялись среди зеленых квадратов лугов и полей. Теперь же буйный кустарник стер очертания человеческого жилья. В селении осталось всего лишь несколько семей, а в школе не набиралось и полдюжины детей. Учителя отказывались здесь работать.
Дом Бестеги, однако, стоял нерушимо. Несколько лет назад Модест заново оштукатурил стены. На следующий год он возил тачки со щебнем и мешки с известкой. Односельчане снова решили, что он собирается привести снизу хозяйку. В том же году он вдруг стал прикупать землю. Люди, уходившие в долину, уступали ему за бесценок свои участки полей, лугов и леса.
Отец Бестеги пришел в это селение босой, с пустыми карманами, в единственной рубахе. В ту пору вся земля была занята. И. вот теперь его сын мог приобрести, сколько хотел, хоть целый склон горы. Вероятно, вначале он упивался этой возможностью: «Куплю-ка я лужайку около дома да еще фруктовый сад у брата Помареда, который ушел на завод в Сен-Годенс, а заодно верхние луга поближе к хребтам — там овцам будет привольно». Благоразумные старики, утратившие иллюзии, твердили: «Бестеги, друг, не можешь ведь ты разорваться. Чтобы обрабатывать землю, нужны руки, машины в наших местах не годятся, а чтобы заняться лесом, нужны хорошие дороги». Модест только посмеивался. Он считал, что управится и найдет женщину, которая разделит с ним его труды.
Однако, вдоволь насладившись сознанием, что он землевладелец, и обойдя из конца в конец свое имение, Модест приуныл. На него свалилась пропасть забот. Картофель был плохо окучен, пшеницу глушили сорняки, капуста и репа не уродились. Он решил нанять работника для ухода за скотом, но никто не соглашался перебраться в Кампас. Только лодыри и проходимцы шли к нему, да и те уходили через две недели. В долине работа была легче, и за нее лучше платили.
И тогда Бестеги смирился. Он продал большую часть своих коров и позволил кустарнику разрастаться вволю. Снова, как прежде, он начал бродить по горам. Из всех своих угодий он обрабатывал огород, гречишное поле и небольшие участки овса, капусты и репы. С наступлением теплых дней он собирал овец со своего селения и даже из долины и уходил на высокие пастбища близ вершин. Время от времени он запирал дверь своего дома и пропадал по нескольку дней. Его встречали в харчевнях Люшона. Но иногда он исчезал невесть куда — видно, искал уединения. Он был уже не молод, волосы его серебрились сединой, но ноги были по-прежнему сильными и выносливыми. Замечая его крепкую фигуру высоко на уступах горы или на опушке леса, крестьяне говорили, опираясь на рукоятку лопаты: «Смотри-ка, вон Модест охотится!» А если вы спросили бы их: «На кого же он охотится?» — вы бы услышали: «Охотится — и все. На куницу, на горностая, на лису. Или на медведя. А может, охотится за временем!» Старики добавили бы с усмешкой: «А время — дичь неверная. Бежишь за ним и никогда не схватишь».
Я говорил о приходе испанских беженцев… Их встречали в Люшоне и в селах в долине. Модест не мог представить себе, что они одолеют путь через хребет по неприступной крутизне, скалам и снегам. Только медведи и другие хищники бродили там. И хотя селение Кампас находилось совсем близко от Испании, оно было отрезано от нее больше, чем любая деревня в долине. Кое-где в Пиренеях местные жители слышали грохот залпов и ружейные выстрелы. Вместе с ветром до них долетал страшный рокот войны. Но в Кампасе нерушимо царила тишина, и — трудно поверить — война в Испании долго представлялась жителям Кампаса непонятной и далекой.
Крестьяне говорили, что испанцы — народ горячий, но отходчивый и что через несколько недель бои прекратятся так же быстро, как начались. Генералы стоят за короля, а простой люд не понимает, что к чему. Никому не верилось, что там идет настоящая война с армиями, окопами и боями, по всем правилам. Должно быть, просто отдельные кучки бунтовщиков поднимали мятеж то тут, то там. Потом, когда пришли достоверные сведения, их те же не приняли близко к сердцу: ведь все это происходило где-то в Испания, по другую сторону гор. Время шло, кое-кто стал толковать, что ладо бы послать туда пушки и самолеты. Модест возражал: «Какого черта лезть не в свое дело? Если наши пошлют туда оружие, война будет тянуться еще дольше».
И все же однажды ранним утром в конце марта Модест Бестеги увидел испанцев из своего окна. Кучка оборванных людей появилась в рассветном тумане словно прямо из горы. Сначала он не поверил своим глазам.
Люди брели по тропе, которая вела с вершин. По промокшим эспадрильям и платью было видно, что они шли по снегу и по воде. Должно быть, они ночевали в расщелинах скал, сбившись в кучу, точно овцы, а наутро снова пускались в путь. Они перевалили через хребет в самом высоком месте и теперь спускались в долину.
Глядя на обросших мужчин и женщин с давно не чесанными волосами, па их лохмотья, землистые лица с лихорадочным блеском в глазах, можно было подумать, будто это не живые люди, не мужчины и не женщины, а клочья тумана, порождение низко нависших облаков. Цвет их лиц и одежды сливался с цветом стволов и придорожной пыли. Как им удалось пересечь эти горы? Даже в разгар лета, когда снега отступают, хребет оставался непреодолимым.
Модест пил кофе. Стоя перед узким окном кухни, он по обыкновению высовывался из него и пристально вглядывался в окрестности. Держа обеими руками чашку, он видел перед собой покрытую грязью тропу, бродячих котов и собак и поджидал, пока проснется селение.
И вдруг среди безделья и тишины, точно из-под земли, явились эти мужчины и женщины и направились к его дому.
Заметив строения, беженцы на миг остановились. Бестеги увидел, как они замерли в нерешительности, качнулись кто вперед, кто назад, точно тряпичные куклы. Затем двинулись дальше тем же усталым, свинцовым шагом. Руки их опирались на палки, палки натыкались на камни дороги. Селение, внезапно выросшее перед ними из тумана за поворотом тропы, показалось им сном. Они уже не надеялись добраться до человеческого жилья, не ожидали найти его так скоро. Первый дом на их пути, дом Модеста, встал перед ними, как призрачное видение, а не как обычное жилище с очагом, где пылал огонь, с печью для хлеба, с котелком супа, с запахом сажи и еды.
Модест вышел на порог, закрыл за собой дверь и стал смотреть на пришедших. Он не боялся их, но за пояс он заткнул медно-перламутровую наваху.
— Эй, вы, откуда вы идете этой дорогой? — спросил он.
Один из них выступил вперед и на ломаном языке сказал, что они беженцы и пришли из Испании.
— Из Испании через хребет?
Модест повторил свой вопрос несколько раз, помогая себе руками.
— Через хребет? Через эту гору? Вон той дорогой?
Человек кивнул головой и подтвердил:
— Si, si, senor, si… Рог la montana… Tuy alta… Si… Tuy dificil…[25]
Он объяснил жестами, что они замерзли и изголодались и что дети очень устали. Это, впрочем, Модест понял и сам, но он был так изумлен, что не сразу открыл перед ними дверь Он разглядывал пришельцев, мужчин и женщин — среди них были старики лет шестидесяти и старше и трое ребят лет двенадцати — и бормотал себе в усы:
— Вы пришли с той стороны! Вы сумели перевалить через эту гору! Вот уж этого я не мог себе представить, черт возьми! Не может быть! Беженцы еще не пробирались по этим местам!
Один из испанцев смотрел странным взглядом, лицо его было исполосовано розовыми шрамами, на которых не росла борода. Он нес через плечо какой-то длинный пузатый предмет, завернутый в грязную тряпку. Модест сообразил, что это гитара.
Первый испанец продолжал говорить на своем невозможном языке, и Модест понял из его слов, что им пришлось бежать в горы и тут уж было не до проводника и не до поисков хорошей дороги.
Я слышу гитару Пабло, хотя никогда не видел его самого. Ее струны трепещут в полумраке на опушке леса, под снегами Венаска, алыми в лучах заката. Гитара дрожит, как сердце, готовое раскрыться. Ее звуки разлетаются брызгами, точно алые зерна спелого граната. Кроны деревьев на склоне колышутся волнами, но не ветер волнует их, а мелодия, могущество звуков и слов. Склонив голову, Пабло чуть слышно напевает: