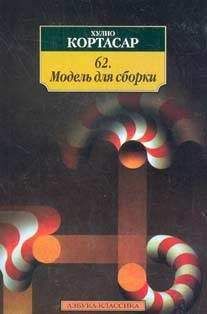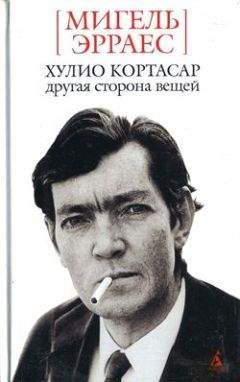Когда пластиковое покрывало было спущено и муниципальный оркестр Аркейля заиграл «Sambre-et-Meuse» [93], первые комментарии, услышанные моим соседом, были: но у него же нет ни меча, ни щита / это в духе Пикассо / а где голова? / он похож на осьминога / dis donc, ce type-la se fout de nos gueules? [94] / а что там вверху, чемодан? / правую руку он держит на заднице / это не задница, это Галлия / какое зрелище для детей / нет, религия погибла / а обещали лимонад и флажки / çа alors / теперь я понимаю Юлия Цезаря / ну-ну, не надо преувеличивать, тогда были другие времена / только подумать, что Мальро это допускает / он что, голый? А вот это у него внизу, это что? / бедная Франция / я пришла, потому что получила приглашение на такой голубой изящной карточке, но клянусь тебе всем, что есть самого святого, если бы я подозревала /
– Но, тетенька, это же современное искусство, – сказала Лила.
– Не толкуй мне о всяких футуризмах, – сказала госпожа Корица. – Искусство – это красота, и оно кончилось. Вы же не станете мне возражать, молодой человек?
– Нет, сударыня, – сказал Поланко, который веселился, как боров у корыта.
– Я обращаюсь не к вам, а вот к этому молодому человеку, – сказала госпожа Корица. – Известно, что вы и ваши собутыльники – закадычные друзья создателя этого чудища, и зачем я только пришла, о Боже!
Как обычно, рассуждения госпожи Корицы мгновение вызвали у дикарей желание объяснить все на свой лад. «Ути, ути, ути», – сказал мой сосед. «Ата-та по попке», – сказала Телль. «Буки-буки-бук», – сказал Поланко. «Вот я вам зададу», – сказал Марраст, которому, разумеется, полагалось защищать статую. «Бисбис, бисбис», – сказала Сухой Листик. «Ути, ути», – сказал мой сосед. «Бух», – сказал Калак, надеясь, что это односложное словечко закроет дискуссию. «Гоп, гоп», – сказал Марраст, желавший, напротив, ее подогреть. «Бисбис, бисбис», – сказала Сухой Листик, которую слегка обеспокоило направление спора. «Гоп, гоп, гоп», – настаивал Марраст, который никогда бы не дал наступить себе на мозоль. «Бух», – сказал Калак, с удовлетворением глядя, как госпожа Корица поворачивает к ним спину в фиолетовую полоску и тащит прочь Лилу, бросающую на них грустные и все более удаляющиеся взгляды. Обо всем этом и еще о многом они могли всласть поболтать в поезде на обратном пути, сморенные усталостью и лимонадом, от которого в желудках чувствовалось приятное томление, и сожалели только о том, что Маррасту пришлось остаться в Аркейле, в окружении эдилов, которые собирались прикрыть банкетом свое желание размозжить ему голову. Дикарям статуя героя показалась великолепной, и они были убеждены, что никогда еще глыба антрацита не высилась со столь точно рассчитанным вызовом на какой-либо французской площади, не говоря о том, что идея поместить пьедестал вверху представлялась им вполне логичной и не требующей пояснений – во всяком случае, Калаку и Поланко, сумевшим сломить робкое сопротивление Телль, для которой русалочка Андерсена в копенгагенском порту оставалась абсолютным идеалом в области скульптуры.
Поезд был почти пуст и проявлял явную склонность останавливаться на всех станциях и даже между оными, но, так как никто никуда не спешил, друзья расселись по вагону, где вечернее солнце изображало всевозможные кинетические картины на спинках и сиденьях, способствуя художественному настроению, с каким дикари вошли в вагон. На скамейке в глубине Николь и Элен тихо курили и только изредка нарушали молчание, чтобы прокомментировать суждения госпожи Корицы, грусть Лилы, которой пришлось оторваться от лицезрения Калака, и то усердие, с каким дочь Бонифаса Пертёйля старалась восхищаться Поланко в вопросах открытия монументов. Так славно было в этом полупустом вагоне, где разрешалось курить, переходить с места на место, чтобы поболтать и повздорить с друзьями, посмеяться над лицами Селии и Остина, которые, держась за руки, любовались пригородным пейзажем, как если бы то была Аркадия; мы чувствовали себя почти как в «Клюни», хотя не хватало Курро и кофе, хотя бедняге Маррасту пришлось остаться на этот треклятый банкет, – и каждый развлекался или отвлекался по-своему, уж не говоря о том волнующем мгновении, когда контролер обнаружил, что у Калака нет билета, и предъявил ему огромный желтый лист бумаги с указанием штрафа и строгим предупреждением – к безграничному веселью Поланко, и Телль, и моего соседа, и все это вперемежку с воспоминаниями о кораблекрушениях и об открытии памятника, но вот наконец мой сосед вытащил улитку Освальда и попытался выяснить (заключая пари), сумеет ли Освальд проползти по верху спинки одного сиденья, пока поезд покроет дистанцию от Аркейля до Парижа, – тут присутствовал и некий поэтический момент, идея перпендикулярного перемещения Освальда по отношению к движению поезда и воображаемая диагональная результирующая двух перекрестных движений и их соответственных скоростей.
Обычно после поездок и разлук дикари встречались с волнением, радостью и воинственным задором. Еще в конце торжественного открытия памятника они заспорили о каком-то сне моего соседа, по мнению Калака, подозрительно походившем на фильмы Милоша Формана, и Телль вмешалась, чтобы слегка изменить развязку, в чем ее тут же уличил мой сосед, а Поланко и Марраст внесли дополнительные предложения, чем довели этот сон до таких масштабов, которые его автор объявил чистейшей фантазией. Теперь дорожное настроение побуждало их к ностальгии и задумчивости, а те, кто взаправду заснули и временами видели сны, не испытывали желания поделиться ими. Дремлющий Поланко с чувством, похожим на нежность, вспомнил о том, что дочь Бонифаса Пертёйля явилась на открытие, иначе говоря, продолжает его любить, несмотря на кораблекрушение, хотя противовесом этим сентиментальным грезам была неотвязная мысль, что он остался без места и придется искать другую работу. «Водитель такси, – подумал Поланко, который всегда выбирал себе хорошую работу, а потом соглашался на любую. – Будет у меня такси, буду ездить ночью, подбирать подозрительных пассажиров, и они будут меня возить в самые немыслимые места, ведь на самом-то деле везет пассажир, и такси приезжает в незнакомые места, в тупиковые улочки, и там что-то случается, и ездить ночью всегда немного опасно, а потом, малыш, можно спать днем, а это для молодцов вроде меня самое разлюбезное дело».
– Буду всех возить бесплатно, – заявил Поланко, – по крайней мере первые три дня, а потом спущу флаг и уже не подниму его до греческих календ.
– О чем это он? – спросил Калак у моего соседа.
– Что до флага, можно полагать, что он заразился муниципальным патриотизмом сегодняшнего торжества, – сказал мой сосед, подбадривая Освальда, который всегда немного унывал, начиная с третьего сантиметра. – Не дрейфь, братец, гляди, как бы из-за твоей слабины я не потерял тысячу франков. Смотрите, смотрите, как он реагирует, право, я настоящий Легисамо слизняков, глядите, какая живость в его рожках.
– Бисбис, бисбис, – сказала Сухой Листик, которая пари не заключила, но все равно волновалась.
Калак сидел в углу с тетрадкой и набрасывал план книги или что-то вроде того, время от времени, между двумя затяжками, поглядывал на сидящих напротив Элен и Николь и улыбаясь им без особой охоты, а так, по привычке, отчасти потому, что ему было не очень-то приятно смотреть на Николь, а главное, потому, что он глубоко погрузился в литературу и все прочее было для него вроде игры бабочек моли. Именно тогда Поланко заговорил с ним про такси, и Калак нелюбезно ответил, что никогда не сядет в такси, где водителем будет такой бурдак. Даже бесплатно? Тем более, потому что это всего лишь спекуляция на чувствах. Даже на пять кварталов, попробовать дорогу? И на два метра не сяду.
– Вы, дон, здесь не ко двору, – сказал Поланко. – И нечего тыкать мне свою тетрадь, где вы делаете заметки. Заметки о чем, спрашиваю я?
– Настало время, – сказал Калак, – чтоб кто-нибудь описал эту коллекцию ненормальных.
– Et ta soeur [95], – сказала Телль, не уступая ему ни пяди.
– Не обращай на него внимания, – презрительно отозвался Поланко, – можно себе представить, что способен написать такой финтихлюпик. Че, скажи-ка, по какой причине ты не возвращаешься в Буэнос-Айрес, ты там вроде бы фигура известная, только непонятно почему.
– Сейчас тебе объясню, – сказал Калак, складывая тетрадь наподобие японского веера, что было знаком сильного гнева. – Я не могу решить важнейшую задачу, а именно: там многие меня очень любят in absentia [96], и, если я вернусь, наверняка поссорюсь с ними со всеми, не говоря о том, что там еще есть уйма хлыщей, которые меня отнюдь не любят и будут в восторге, когда я поссорюсь с теми, кто меня очень любит.
Объяснение было встречено, как и следовало ожидать, минутой молчания.
– Вот видишь, – сделал надлежащий вывод Поланко, – куда лучше бы тебе сесть в мое такси, там таких историй не будет. А вы как думаете, слипинг бьюти? [97]