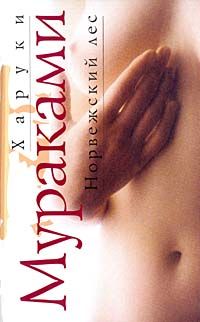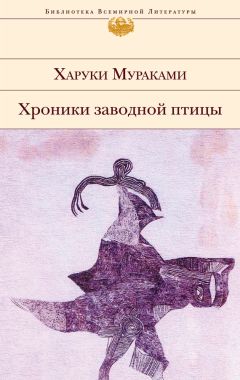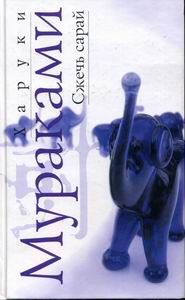— Буду беречь, — согласно ответил я.
— У нас дочери двадцать один да сыну семнадцать, так они в больницу и не приходят. Как выходные, так они куда-нибудь развлекаться едут, то на серфинги свои, то на свидания. Им только денег карманных побольше подавай.
В пол-второго женщина ушла из палаты, сказав, что сходит за покупками. Больные оба крепко спали. Горячие лучи послеобеденного солнца ярко освещали комнату, и сидя на стуле с круглым сиденьем, я, казалось, вот-вот начну засыпать сам.
В вазе на столе у подоконника стояли белые и желтые хризантемы, сообщая всем, что сейчас осень. В палате витал сладковатый запах тушеной рыбы, оставшейся нетронутой после обеда. Медсестры все так же продолжали сновать по коридору, стуча каблуками, и о чем-то переговаривались ясными и четкими голосами.
Иногда они заглядывали в палату, и увидев, что оба пациента крепко спят, улыбались мне и исчезали. Я подумал, что хорошо было бы, если бы было что почитать. Но в палате ни книг, ни журналов, ни газет не было. Лишь календарь висел на стене.
Я вспомнил о Наоко. Вспомнил обнаженное тело Наоко, на котором не было ничего, кроме заколки для волос. Вспомнил узкую талию и укрытые тенью волосики в паху. Почему она разделась тогда передо мной? Был ли тогда у Наоко приступ лунатизма? Или это была всего лишь моя фантазия?
Чем дальше удалялся я от того маленького мира с течением времени, тем труднее мне было понять, было ли все, что произошло той ночью, плодом моего воображения или нет. Когда я думал, что это было на самом деле, мне казалось, что так оно и было, а когда я думал, что это было моей фантазией, то начинало казаться, что это и была фантазия. Все вспоминалось слишком отчетливо до самых мелких деталей, чтобы быть фантазией, но было слишком прекрасно, чтобы произойти на самом деле. И тело Наоко, и даже тот лунный свет.
Вдруг проснулся отец Мидори и начал кашлять, и мои воспоминания на этом прервались. Я дал ему сплюнуть мокроту на туалетную бумагу и утер пот со лба полотенцем.
— Воды попьете? — спросил я, и он кивнул, наклонив голову миллиметра на четыре. Я медленно вливал понемногу ему в рот воду из маленькой бутылочки, его сухие губы дрожали, кадык слегка шевелился. Он выпил всю теплую воду из бутылочки.
— Еще попьете? — спросил я.
Мне показалось, что он хочет что-то сказать, и я наклонился к нему поближе.
— Хватит, — сказал он тихим голосом. Голос его был еще суше и тише, чем до этого.
— Поедите чего-нибудь? Проголодались? — спросил я.
Он опять слегка кивнул. Я покрутил ручку и приподнял кровать, как это делала Мидори, и стал кормить его с ложки по очереди овощной икрой и тушеной рыбой.
Прошло довольно много времени, пока он съел половину и слегка помотал головой, давая понять, что уже хватит. Видимо, много шевелить головой ему было больно, так как поворачивал голову он лишь чуть-чуть. Я спросил его, будет ли он есть фрукты, он сказал: «Не хочу». Я вытер ему рот полотенцем, вернул кровать в горизонтальное состояние и выставил посуду в коридор.
— Вкусно было? — спросил я.
— Невкусно, — сказал он.
— Это точно, еда тут не особо вкусная, — сказал я, смеясь.
Он смотрел на меня, ничего не говоря, и глаза его, казалось, вот-вот закроются.
Мне вдруг подумалось, а понимает ли этот человек, кто я? Казалось отчего-то, что со мной ему находиться легче, чем когда Мидори была рядом. Или, может быть, он принимал меня за кого-то другого. Мне казалось, что по мне так оно было бы лучше.
— Погода на улице отличная, — сказал я, закидывая ногу на ногу, сидя на стуле. — Осень, воскресенье, погода отличная, так что куда ни пойдешь, везде людей полно. В такой день вот так где-нибудь в комнате спокойно сидеть лучше всего. И не устаешь зря. Туда, где людей много, пойдешь, так только устанешь, да и воздух плохой. Я по воскресеньям стираю обычно. Утром белье постираю, на крыше общаги развешу, а перед закатом снимаю и отглаживаю. Я бы не сказал, что мне белье гладить так уж не нравится. Здорово, когда помятая вещь разглаживается ровненько. Я довольно неплохо глажу. В начале, конечно, плохо получалось. Все в морщинах выходило. Но за месяц где-то привык. Так что воскресенье у меня день стирки и глажки. А сегодня вот не вышло. Жалко. Погода сегодня — для стирки лучше не придумаешь. Но ничего страшного. Можно и завтра утром пораньше встать и все сделать. Вы сильно не переживайте. Хоть сегодня и воскресенье, мне больше особо и заняться-то нечем. Завтра утром постираю, белье развешу, а в десять на лекцию. Мы с Мидори эту лекцию вместе слушаем. Это «История драмы II», мы по ней сейчас Эврипида проходим. Знаете Эврипида? Это древний грек такой, их с Эсхиллом и Софоклом большой тройкой древнегреческой трагедии называют. Его в конце, говорят, в Македонии собаки закусали, но по этому поводу разногласий много. Это про Эврипида-то. Мне вообще-то Софокл нравится, но это уже дело вкуса, так что ничего сказать не могу. В его пьесах такая особенность есть, что все люди попадают в дикие и запутанные ситуации и не могут из них никак выбраться. Понимаете? Люди фигурируют самые разные, и у каждого есть свои обстоятельства, причины, убеждения, и все по-своему стремятся к справедливости и счастью. И из-за этого все люди оказываются в таких положениях, что ни так не могут поступить, ни этак. Такого ведь в принципе быть не может, чтобы у всех людей была одна справедливость и все стали счастливы. Поэтому наступает неизбежный хаос. И что тогда происходит, как думаете? На самом деле это решается элементарно. В конце появляется бог. У он все расставляет по местам. Ты иди туда, ты иди сюда, ты иди с ним, а ты тут пока подожди, типа такого. Как посредник вроде. И таким образом все дела решаются. Это называется «бог из машины». У Эврипида постоянно этот «бог из машины» фигурирует, и когда до этого места доходит, то мнения у людей по поводу Эврипида расходятся.
В реальности, правда, если бы такой «бог из машины» существовал, все было бы легче. Как какие-то затруднения, как показалось, что выпутаться из чего-то не можешь, так сверху боженька снисходит и все решает. Как бы действительно легко было! Вот это, короче, и есть «История драмы II». Мы в университете такие вещи изучаем.
Пока я говорил, отец Мидори ничего не говорил и смотрел на меня неподвижным взглядом. Глядя в его глаза, невозможно было хоть сколько-то судить о том, понимает ли он хоть что-то из того, что я говорю.
— Peace, — пробормотал я.
Закончив говорить, я довольно сильно проголодался. Утром-то я почти ничего не ел, да и обед съел только наполовину.
Я пожалел, что не доел обед, но жалеть было поздно. Я пошарил там и сям в поисках съестного, но ничего кроме коробки с сушеной морской капустой, кускового сахара и соевой пасты там не было. В бумажном пакете лежали огурцы и грейпфруты.
— Я проголодался что-то, можно я огурцы съем? — спросил я у него.
Отец Мидори, наверное, ничего и не ответил. Я сходил в уборную и помыл все три огурца. Потом положил на тарелку соевой пасты и стал хрустеть огурцом, заворачивая его в морскую капусту и макая в соевую пасту.
— Вкусно, — сказал я. — Простенько, свеженько, бодростью отдает. Классные огурцы. Мне кажется, такая пища куда лучше, чем киви.
Я съел один и принялся за другой. По палате разносился жизнерадостный хруст. Уничтожив без остатка два огурца, я наконец перевел дыхание. Потом вскипятил воду на газовой плитке в коридоре и попил чаю.
— Воды или сока хотите? — спросил я.
— Огурец, — сказал он.
Я улыбнулся.
— Ладно. В морскую капусту вам завернуть?
Он чуть заметно кивнул. Я порезал огурец ножом для фруктов на кусочки, чтобы удобно было есть, и стал накалывать их на зубочистку и класть ему в рот, заворачивая в морскую капусту и макая в соевую пасту. Он брал их в рот и с почти ничего не выражающим лицом глотал, сделав несколько жевательных движений.
— Ну как? Вкусно? — спросил я.
— Вкусно, — сказал он.
— Это хорошо, что вам вкусно. Это доказывает, что вы живы.
В итоге он съел весь огурец. Съев огурец, он захотел пить, и я снова напоил его. Попив воды, он немного спустя захотел по-маленькому, и я достал из-под кровати бутылку и приложил к ее горлышку его член.
Я пошел в туалет, вылил мочу и вымыл бутылку водой. Потом вернулся в палату и допил свой чай.
— Как чувствуете себя? — спросил я.
— Чуть-чуть, — сказал он. — Голова.
— Голова чуть-чуть болит?
Он утвердительно слегка наморщил лицо.
— После операции так и должно быть, наверное. Мне операций не делали никогда, я не знаю.
— Билет, — сказал он.
— Билет? Какой билет?
— Мидори. Билет.
Я молчал, не в силах понять, что он имел в виду. Он тоже какое-то время ничего не говорил. Потом сказал: «Пожалуйста». Мне послышалось, что это было слово «пожалуйста». Он смотрел на меня, раскрыв глаза. Похоже было, что он что-то хочет мне сообщить, о что именно, я никак не мог сообразить.