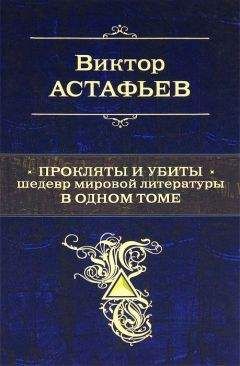Прикарпатский еврей по фамилии Одинец, сложенный из частей, худо подогнанных друг к дружке, как бы совсем меж собою не соединенных, – носище отдельно, губищи, всегда мокрые, отдельно, глаза от рождения напуганно вытаращены. Уши прилеплены к сплющенной голове с философскивысоким, гладким лбом, уже с юности уходящим в залысину. Если к этому добавить, что гимнастерка застегнута через пуговицу, штаны часто и вовсе незастегнуты, пряжка ремня набок, сапоги – один начищен, другой нет, все-все как бы случайно, на бегу надето – вот и закончен портрет. Внешний. В деле же Одинец собран, толков, одержим, и, если б он панически не боялся начальников, – цены бы ему не было. Свое смятенное состояние Одинец всячески скрывал, подражая громилам-командирам, у которых хайло шире погона, витиевато выражался вроде по-русски и вроде по-бессарабски – «боийэхомать!». В присутствии начальства вторую половину своего виртуозного мата Одинец сокращал. Над Одинцом посмеивались, но все кругом знали – без него, как без рук. Командир артполка Вяткин, снова спрятавшийся в санбат, под крылышко жены, разносил Одинца часто и больно. Зарубин же всячески начальника связи защищал. Велел ему без крайней надобности не появляться на глаза начальству, что тот охотно исполнял, пропадая в походной мастерской, где среди проводов, аккумуляторов, паяльников, гаек, болтов и разного другого железа он и спал, но спал мало, ругался и гонял связистов. Чего-то сваривал, паял, клепал, по личной инициативе собирал спаренную пулеметную немецкую установку – для защиты штаба и однажды на глазах у всех подшиб вражеский самолет – все видели, как самолет, низко летевший с бомбежки, громыхнулся в кукурузу и загорелся. Как ни кривился комполка Вяткин, пришлось ему Одинца представлять к ордену «Отечественной войны», которого сам комполка не имел. Одинец же получил третий орден и повышение в чине, сделался капитаном, но, привыкнув к званию старшего лейтенанта, долго на новое звание не реагировал. И вот связь, налаженная под руководством Одинца, и, более того, его же руками намотанная, лежала на дне реки, работала, другие же линии постепенно угасли. Узнав, что майор Зарубин ранен, капитан Одинец не очень уверенно предложил:
– Может, мне к вам переправиться?
– Сидите уж, где положено! – раздраженно буркнул Зарубин и, тут же успокаивая человека, добавил: – Вы там нужнее.
Радение Одинца, его умение, ценный талант нежданнонегаданно коснулись судьбы связиста Шестакова. Он после тяжкой ночи каменно спал в земляной норке, когда его задергали за ботинок так, что чуть не разули.
– Что такое?
– К майору. Бегом!
Разумеется, бегом Лешка не бежал, потянулся, позевал и засунулся в выемку, сделанную наподобие звериного логова, снаружи завешенную лоскутом брезента. Майор, совсем пожухлый лицом, полулежал возле телефона.
– Вам звонят. – Сказал и протянул Лешке трубку.
– Мне?! – поразился Лешка. – Кто мне может звонить? Корешки с того берега не посмеют занимать телефон. Может, капитан Щусь?…
– Вам, вам, – кивком головы подтвердил майор.
– Лешка! Ой, тоись, Шестаков слушает, – неуверенно произнес Лешка.
От дальности напрягшийся, незнакомый голос, перекрывающий скрип, шум и писк индукции, произнес:
– Товарищ Шестаков! С вами говорит начальник связи штаба большого хозяйства. – Дальше сообщались звание, фамилия, но Лешка их не запомнил. – Вы меня слышите?
– Шестаков! Ты где там? – ворвался на линию заполошный голос Одинца, но уж без «эхомать».
– Да здесь я, здесь, у телефона. Что случилось-то?
– Да ничего у нас не случилось, – рассмеялся далекий начальник связи. – Слушайте меня внимательно. Командующий хозяйством, вы его лично знаете? – Лешка ничего не знал о командующем какого-то хозяйства и видел ли его хоть раз, вспомнить затруднился, но согласно кивнул головой, как будто человек на другом конце провода мог его увидеть. – Так вот, командующий просил передать лично вам благодарность за тот подвиг, который вы совершили, переправив связь…
«Ну, это уж ты, дядя, загибаешь! – усмехнулся Лешка. – Что-то тебе надо от меня, вот подмазываешь салазки…»
– … Он также поручает вам переправить связь…
– Какую еще связь? – испуганно переспросил Лешка и явственно почувствовал, как у него кольнуло и заныло в животе иль близ его.
– Нашу, нашу! – продув трубку, кричал далекий человек – начальник. – Вы меня поняли? Вы меня слышите?
– Ты понял? Ты слышишь, Шестаков? – снова объявился Одинец.
– Слышу.
– Я понимаю. Все понимаю… трудно. Но надо. Одна лишь ваша линия эксплуатируется. Этого мало для развития операции, слишком мало, – он еще что-то говорил и в заключение «по секрету» выдал: – Лично ходатайствую «Звезду».
Быстро-быстро вращалась, трепыхалась мысль, только бы ее не услыхали по проводу, не ощутили бы, как она катается под потной солдатской пилоткой, с какого-то утопленника доставшейся, бьется в углы черепа и никак в лузу не попадает: «Рассветает же! День! Сказать, лодку разбило. Нет лодки! Нету этого несчастного корыта! Кто узнает? Оттолкну. Унесет к чертям. Проверь, попробуй!…»
– Шестаков! Шестаков! – опять завелся Одинец. – Ты шо, не выспался?…
– Вот именно! – вспылил Лешка. – Я только что приплыл. Я один тут? Один?
Но что говорить об этом Одинцу? Он от страха, как всегда, вспотел, утирается подкладкой фуражки, облизывает мокрые губы. Он своего-то домашнего начальства, за исключением Мусенка, боится, как огня, а на проводе чин аж из корпуса. И товарищ майор чего-то примолк, устранился, не приказывает, не распоряжается. Приказывал бы. Умные какие все кругом, один он дурак, с этим дурацким корытом, выкопанным из грязи на свою дурную голову.
Майору Зарубину тоже приходило в голову, что челн этот нечаянный будет замечен не только на плацдарме, его или изымут, или прикажут делать чужую работу. Солдат сделал все возможное и невозможное, и если на то пошло, и пехотные части, и все-все боевики на плацдарме ох как обязаны ему, этому связисту! И нету ни у кого никакого права упрекать его ни в чем. Солдаты у него, у Зарубина, какие-то несообразительные растяпы – догадливые давно бы пустили то корыто по течению, немцы в щепки разбили бы его. Нет, берегут плавсредство – на всякий случай, предлагают переправиться на нем ему, командиру, но на самом-то деле тайно радуются тому, что и командир, и корыто здесь, с ними. Ох уж эти солдаты – политики! Кто их поймет? Кто пожалеет и оценит?…
Лешка нашаривал, нащупывал взглядом в темном земляном отверстии майора, отвалившегося на сырую стенку. Зарубин высунул из шалашика шинели голову, тусклый его взгляд, устремленный в пустоту, скорее угадывался, чем виделся. Взгляд майора погас – отвернулся он от своего солдата? Бело отсвечивало что-то – лицо или бинт – не разобрать. Наконец Лешка понял: майор, командир его и отец на все время военной жизни, предоставил солдату все решать самому, дав ему тем самым ответ – не судья он ему сейчас. Все пусть решает совесть и что-то еще такое, чему названия здесь, на краю жизни, нет.
– Ладно, не надрывайся, товарищ капитан, – устало сказал Лешка Одинцу и, сунув майору трубку, потопал к воде, отчего-то по-лошадиному мотая головой и как бы забыв про немецкий пулемет, пристрелянный к устью речки Черевинки.
«Ишь ты все какие! Ишь какие! Как кутенка – из мешка в воду, который выплывет, тот – собака. И майор тоже хорош… Да какой я ему друг-приятель? Я – его подчиненный, и Одинцу подчиненный. А до того начальника, что из штаба корпуса, как до Бога, – высоко и глухо».
Переправа, кровь и смерть отделили их ото всех смертных, подравняли, сблизили. Что ж заставило майора взять с собой на плацдарм именно его, Лешку Шестакова, который сам же и давал советы майору – выбирать надежных людей. А надежный – это значит тот, на кого можно надеяться. Всегда, во всем! Не на Сему же Прахова. Сочувствие, помощь друг другу, главное работа, которую они уже проделали, тяжкая, смертельная работа настолько сблизила их, что памяти этой хватит на всю жизнь. И вот войдет в эту память худенькое, сволочное. Ведь он майора втягивает как бы в сделку вступить, ложь сотворить, а она, эта ложь, угнетать будет не одного Лешку и наверняка уж сделает к нему отношение майора совершенно иным. Этаким вежливеньким, спокойно-холодным, как к Вяткину Ивану.
Пнув в войлочно-мягкий бок челна, Лешка, глядя на другой, туманной дымкой скрытый берег, отрешенно выдохнул:
– Я бы две звезды вам отдал…
Майор ворохнулся, нажал клапан трубки:
– Боец Шестаков приступил к выполнению ответственного задания.
– Все в порядке! Все в порядке! – восторженно подхватил за рекой Одинец, но майор оборвал его, сказав, что курортники-связисты из корпуса явятся налегке, надо набирать своей связи, привязывать к ней грузила и вообще помочь Шестакову всем, чем возможно. На каждое слово майора, вроде и опережая его приказания, Одинец угодливо твердил: