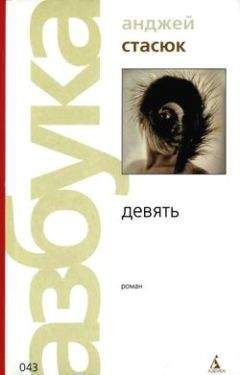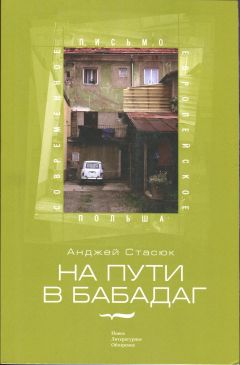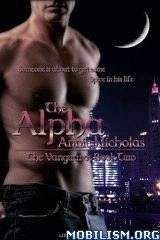– Болек, мне нужны бабки.
Тот посмотрел на него пустым взглядом, таким же пустым, как бутылка на столе, но совершенно трезвым. Отвел глаза и сцепил руки на животе:
– И мне тоже, ты не поверишь…
– Болек, я серьезно.
– Я тоже. Любой делается серьезным, когда речь заходит о деньгах.
– Богна мне посоветовала к тебе обратиться.
Болек наклонился вперед, слегка поддернув рукава куртки, словно собирался что-то делать руками – исполнить пантомиму, например, или нарисовать в воздухе какую-нибудь сложную, громоздкую фигуру.
– А она здесь при чем? Вот пусть тебе и даст, если такая умная.
– Она только сказала…
– Сколько?
– Двести.
Болек расплел пальцы, вытянул ногу и полез в карман брюк. Вытащил горсть банкнот, отделил две бумажки и бросил на стеклянную столешницу. Они упали как бумажные цветы, не доделанные до конца какой-то мастерицей.
– Болек, мне надо двести кусков.
Тот снова наклонился вперед, опершись руками о колени, и посмотрел на Павла так, словно только сейчас увидел.
– Братан, ты что, е…тый? Ведь я тебя даже не знаю как следует.
Народу в автобусе было мало. Он скользил под бетонными дугами эстакад. Двое малолеток плевали сверху на проезжающие автомобили. Старая забава всех мальчишек – стрельба по движущимся мишеням. У их ног, на краю перекладины, стояла бутылка из-под пива и преспокойно ждала своего часа. Многоэтажки по обеим сторонам все глубже врастали в землю. Сколько им уже. Они – как отвесные скалы, на которых гнездятся птицы. Жители этих домов успели состариться, некоторые даже умерли, на их место пришли новые и теперь борются с застоявшимися запахами чужих тел. Немало нужно попотеть в четырех стенах, чтобы вонь впиталась в бетон. Павел хотел угадать, в котором доме его когда-то рвало, а потом он посреди ночи решил отправиться домой, помнится, совершенно пустой, – ни на сигареты, ни на билет. Тогда он еще не курил так много, мог потерпеть два или три часа – столько пришлось идти, – город ночью был большой и неподвижный, как сновидение.
«Лифчик у нее был, а сисек не было». – Но ни дома, ни имени так и не вспомнил. Пошли дачные участки. Клубящиеся на небе облака сплющивали пейзаж, заборы, домишки и деревья становились игрушечными, будто здесь обитали лилипуты, – настоящее царство кукол. Переплетенные голые ветви жесткой паутиной покрывали все до горизонта, и нигде ни единой живой души, только ветряки на крышах беседок поворачиваются по ветру, купаясь в безбрежных воздушных потоках. И это проехали. И снова автобус нырнул в невидимую тень многоэтажек, дневной свет сгустился, время от времени его разжижали плывущие под колеса поперечные улицы, но потом отраженный от цемента свет вновь затоплял автобус, а Павлу хотелось вспомнить еще что-нибудь из далекого прошлого, чтобы, вырвавшись из реальности, перевести дух, побыть немного в прошлом, где нам почти нечего бояться.
Но не успел, потому что въехали на мост. Дымили трубы Секерок,[10] ветер тянул белые косы дыма на запад. Они расплывались в небе над Садыбой,[11] над Палюхом[12] и собаками, которые выли в клетках приюта день и ночь, но никто за ними не приходил. Что-то вжикнуло по левой полосе, он успел заметить красный зад машины с берлинскими номерами.
«Если бы река текла с запада на восток, всем было бы лучше. И тем, и другим, – думал Павел. – Одни плыли бы по течению, другие на парусах». Он вспомнил рисунок из какой-то школьной книжки: бородатые оборванцы, тянущие баржу вдоль берега.
«Всем было бы лучше, а так ни х…, поезд, машина или самолет». Желтая медленная река маслянисто блестела. Водовороты медленно закручивали пену, потом выпрямлялись; вода текла на север под мостами: под пятью здешними, а потом в Новы Двуре, Вышогроде, Плоцке, под двумя во Влоцлавке, в Тору ни и еще под одним мостом в Фордоне,[13] который тревожил его воображение с того момента, как кто-то сказал ему, что именно там расположена женская тюрьма, раньше он знал ее название только по этикеткам на банках с джемом. Дело прошлое, но река всегда оживляла это воспоминание: цвет и сладость клубничного джема, тихий хруст тех странных то ли косточек, то ли зернышек, похожих на запятые или поры на кожице ягоды. И еще холод и полумрак длинных коридоров, где движутся молчаливые женщины в коконах одиночества, более недоступные, чем королевы в стародавние времена, и в тысячу раз более телесные. Он воображал, как их пальцы касаются баночек, и пытался представить запах их кожи, которая должна была быть гладкой и белой под серо-бурой тюремной робой, нежной, как у растений, которые растут в темноте. Но это было давно, он все помнил, но уже ничего не чувствовал. Ресторан на воде белел, как обглоданная кость. Ехали быстро. День делал глубокие вдохи перед полуднем, когда трасса поперхнется, движение захлебнется и прекратится совсем. Вдали виднелось черное горло Роздрожа.[14] И тут тип в бомбере на меху попросил предъявить билет.
Павел принялся медленно перетряхивать карманы – в безнадежном деле спешка ни к чему. Куртка: один на груди, два внутренних и два внизу, потом на брюках: задние, еще два спереди, пистон;[15] снова куртка, – Павел следил, как темный тоннель приближается с головокружительной скоростью. Кондюк нависал над ним, обеими руками держась за верхний поручень. Краем глаза Павел заметил ногу в белом «адидасе». Она притоптывала по черному полу. Женщина в красном пальто прошла к выходу.
– Ну что, дальше будем гнать дуру или выйдем и поговорим по-людски?
Автобус замедлил ход, вкатываясь на стоянку. Услышав шипение, Павел прыгнул. Почувствовал руку на своих волосах, пригнулся, женщина вспорхнула со ступенек, расталкивая толпу и давая ему возможность пройти, упала. Павел перепрыгнул через нее, двинул кого-то локтем и в десять прыжков оказался на лестнице. Еще не взбежав наверх, он понял, что шансов почти нет, но не остановился, а ринулся направо, прямиком в открытые ворота парка. Кругом пусто, сыро, и чем дальше, тем тише. Павел попробовал поднажать, споткнулся и едва устоял на ногах. Смысла продолжать не было, он хотел остановиться, но в тот самый момент кто-то сделал ему подсечку. Он полетел головой вперед и зарылся ладонями в гравий. Теперь можно было перевести дух. Попытался встать, но чья-то нога надавила ему сзади на шею, впечатав лицо в землю. А потом кто-то пнул его два раза, он сгруппировался, перекатившись на бок, и увидел, что их трое. Тот, что в коже, стоял согнувшись и тяжело дышал, двое других тоже запыхались, но не так сильно. Павел, поднявшись на колени, ждал в центре треугольника.
– Ну и зачем оно тебе надо? – спросил невысокий, в джинсе и бейсболке.
– Спринтер долбаный, – сказал третий.
Быстрое прерывистое дыхание подхватывало звуки. Трепало их по краям, и они получались смазанными.
Павел медленно встал с коленей и на полусогнутых дотащился до лавки. Те трое, окружив его, ждали, пока сердце и легкие справятся с воздухом и кровью. Их злоба медленно испарялась, а Павла покидал страх. Красные огоньки автобусов, шедших по Аллеям,[16] пробивались сквозь полумрак парка. Он то и дело озарялся огнями, с тонких веточек деревьев свисали капли серебряного света. Падая, они лопались, но свет исчезал, не растворяясь в воздухе.
– Ну ладно, давай документы, – сказал тот, в бомбере.
– У меня нет.
– Тогда отстегивай.
– Говорю, я пустой.
Кондюк кивнул остальным, те взяли его под руки и поставили на ноги. Нашли горсть мелочи, меньше сотни, осмотрели зажигалку и засунули ему все обратно в карманы.
– Один мусор, – сказал тот, что в бейсболке. – В отделение надо мудака. Скажем, что оказал сопротивление, пусть посидит.
– Охота тебе? – спросил третий.
– Он меня достал. Чего я бежал?
Они подтолкнули его к выходу на Пенькную,[17] но он не двинулся с места.
Его схватили за руки, кто-то ударил сзади по голове:
– Двигай поршнями, придурок, не то останешься здесь навсегда.
– Господа, нет, я не могу в отделение, мне некогда.
Он стал вырываться, они тянули его за руки, гравий хрустел, вдали показалась женщина с коляской, мысли прыгали в голове, вспомнилась черная рукоятка пистолета, которую он заметил у Болека в прихожей. Она выглядывала из шмоток, брошенных на тумбочку у входа, Павел заметил ее краем глаза – он был уверен, что и Болек, шедший следом за ним, тоже приметил эту рукоятку. К ним приближалась женщина с коляской. На ней было серое пальто, ее очки в туманном воздухе поблескивали, как кружочки льда. Женщина все больше замедляла шаг, потом свернула в боковую аллейку и пустилась бегом. Ребенок заплакал.
– Вот обручальное кольцо, берите. Это тоже деньги. – Он стал стягивать кольцо, но то сидело крепко. Тогда он сунул палец в рот, послюнил, и оно слезло.
А в это время Болек шествовал через анфиладу комнат в своей квартире. Начал с той, в которой они тогда сидели, черно-золотой, потом прошел через голубую с серебряными прибамбасами, потом красную, потом через кухню, сверкавшую белизной, – оставшиеся два помещения выходили на другую сторону: первая была цвета морской волны, с большим пустым аквариумом, вторая – серебряно-серая с вращающимся креслом посередине и зеркалом, в котором отражалось небо, и это отражение было ярче и краше оригинала. Пес остался на своей лежанке, и Болек путешествовал один. Вот он открыл последние двери. Тут все было розовое. Правда, вокруг царил полумрак, но так может пахнуть только розовое – как внутри пудреницы. Болек подошел к окну и раздвинул шторы. Под белой простыней лежала женщина. Тонкая ткань облегала ее тело почти как вторая кожа. Ноги, бедра – все вырисовывалось отчетливо, только было словно слегка растушевано. Болек присел на краешек рядом и шлепнул ее по жопе. Она забормотала что-то под простыней, высунула голову – это была крашеная блондинка. Перевернулась на спину. Грудь торчала прямо в потолок. Он положил ладонь на левую сиську.