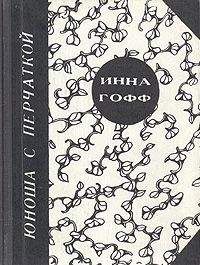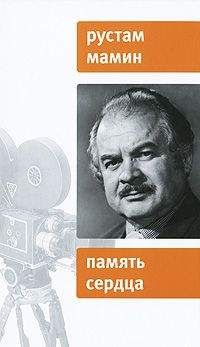Мы выходим из автобуса и идем по аллее к институту. Идем парком. Утро пасмурное, тихое. Деревья в инее. Позади слышатся голоса, это нас нагоняет Компания.
– Ты обещал мне посидеть, – говорю я. – Придешь?
– Не знаю, – говорит он и оглядывается на голоса. – Скоро мой доклад, готовиться надо… Напиши кого-нибудь еще…
– Например?
– Хотя бы Тарасова, – говорит он и краснеет.
Кто-то сзади бросает в меня снежком. Я оборачиваюсь и вижу двух парней из Компании, модницу Риту в макси, из-под которого виднеется брючный костюм, и Вальку Тарасова.
– Привет, Детка, – говорит он мне и протягивает руку Сурку.
– Где ты ночевал? – спрашиваю я. – Не в Общаге?
– Он ночевал у любовницы, – отвечает за Вальку один из парней, и все покатываются. Это главарь Компании по кличке Гранд. У него рыжие усики и бородка – предмет зависти и дискуссий.
– Понятно, – говорю я. Но Гранд не унимается.
– И никогда не спрашивай у взрослого мужчины, где он ночевал, – это неприлично…
– Я не знала, что у Вальки есть любовница, – говорю я.
– И у Вальки, и у меня, и у всех мужчин, достигших определенного возраста… У всех, кроме Коли Суркова… Не красней, Сурок, я же сказал, что к тебе это не имеет отношения!..
Все покатываются, а бедный Сурок отрывается и идет впереди. Какой он нескладный, долговязый! Мне его почему-то жаль.
– Ладно, Гранд, – говорит Валька. – Кончай трепаться…
Ему тоже неприятен этот разговор. Как и мне. Как и Коле Суркову.
Но Валька старше и лучше умеет владеть собой.
Семинар ведет женщина с круглым курносым лицом. Мы с Валькой прозвали ее Дама просто приятная, а историю искусств преподает Дама приятная во всех отношениях… Если первая просто нагоняет сон, то вторая еще режет на зачетах и лишает людей стипендии…
Я сидела на семинаре и думала о том, что хоть Гранд и трепался, но был по-своему прав. Надо подумать, а потом спрашивать! Что мне за дело, где ночевал Валька и есть у него любовница или нет…
В буфете он высмотрел меня и протянул деньги, попросил взять ему винегрет, кофе и конфету «Гулливер». Мы сели за один стол.
– Наша мадемуазель заболела, – говорит он. – А у вас будет английский? Я пробовал изучать, жуткое дело! Ты не боишься сломать язык?
– А ты не боишься сломать нос? – спрашиваю я, намекая на французское произношение. Валька смеется. Он ценит мой юмор. Я тоже ценю его юмор. Вот и все, что нас связывает.
– Я ушел из Общаги, – говорит он вдруг. – Надо серьезно работать, Детка… Теперь у меня своя хата.
Я хочу спросить, что за хата, но вспоминаю урок Гранда и молчу.
– Отличная хата, – говорит Валька. – В высотном доме. Есть такая частушка; «Я живу в высотном доме, но в подвальном этаже…» Слыхала? Вот так и я…
Мы встаем из-за стола.
– Конфету забыл, – говорю я.
– Это тебе, – говорит Валька. – Я их не ем.
У него простое, открытое лицо. Взгляд с лукавинкой. Как жаль, что он не в моем вкусе!..
Когда я выхожу из института, уже темнеет. В окнах горят огни, и воздух кажется синим. Я люблю сумерки. Они лишают предметы определенности, и все становится условным, как в театре. И наш парк в снегу, по которому я иду одна, кажется совсем другим, чем был утром.
И люди в автобусе и в метро совсем другие. Они все о чем-то думают, и эта задумчивость придает их лицам что-то общее, Может показаться, что все они думают об одном и том же. Но каждый думает о своем. Девушка с нарисованным лицом вспоминает чьи-то слова, старушка обдумывает, что сготовить на ужин, африканец из Университета Лумумбы скучает по какой-нибудь Тананариве, столице Мальгашской республики… А я думаю про Вальку Тарасова. От наших я уже знаю, что Валька устроился дворником в высотный дом…
Вечером папа с мамой уходят в гости, и я остаюсь одна в квартире. Они не часто уходят.
Если они засиживаются там допоздна, то включают дистанционное управление, Первой звонит мама:
– Ленка, ну как ты там? Что делаешь? Ничего, потом расскажем… Газ перекрой на кухне перед тем, как ляжешь, ладно? Ну, будь умницей! Целую.
Потом, примерно через час, папа:
– Как дела? Мне кто-нибудь звонил? Ясно… Вытащи ключ из двери, а то мы с матерью не попадем в квартиру: тебя ведь не добудишься!
Потом опять мама:
– Почему ты не спишь? Спала уже? Ты поужинала? Газ перекрыла? Ключ вынула?
И я, как луноход, переработав информацию, выполняю заданную программу. А в общем, мне даже нравится побыть одной. Я не люблю темноты, это у меня с детства, поэтому первым делом зажигаю повсюду свет. Потом достаю свой проигрыватель и кручу пластинки. У меня есть свои любимые: «Романс» Шостаковича в исполнении ансамбля скрипачей, Вертинский и артисты цыганского театра. Я могу их слушать без конца. Маму это удивляет, а папу сердит. Сегодня их нет, и я могу делать что хочу. Я достаю свои работы и расставляю по всей квартире. Получается вроде выставки. Это выставка без зрителей, для меня одной…
Оказывается, я довольно много сделала за полгода!.. Есть несколько удачных портретов. Кажется, я начинаю понимать, почему мне не удаются натюрморты. Я все немного утрирую, и в портретах чувствуется юмор. Мое, авторское, отношение. А в натюрморте юмор, ирония невозможны. Ну как написать иронический апельсин?!.
Мои размышления прервал телефонный звонок. Это Нина. Ей очень нужно со мной поговорить. Она звонит из автомата. Здесь, на углу.
– У тебя кто-то есть? – спрашивает она. – Честное комсомольское? Я в таком виде!.. А чей это голос?
– Вертинского, – говорю я. – Сейчас выключу…
Мне нравится эта песня, и я хочу ее дослушать.
Свои работы я успела убрать и спрятать в папки, и ничто не напоминает о недавней выставке.
Над ро-зовым мо-рем
Вставала лу-на,
Во льду зеленела
Бутылка вина.
И плавно кружи-и-лись
Влюбленные па-а-ры…
Я кружусь по комнате, подпевая Вертинскому, и перед глазами отчетливо встает тот осенний вечер, и свадьба, и Нина в белом платье, и троюродный дядя, который танцевал, как шахматный конь…
Все же вспомнила про меня. Больше месяца прошло с тех пор! Хороша подруга! Сейчас я ей выдам!..
Но вот она входит, и едва я вижу ее знакомую пуховую шапочку и круглое, румяное с мороза, лицо, как вся моя злость проходит.
Она в клетчатой юбке и красной шерстяной кофточке, такая привычная, своя девчонка.
– Ну, как ты живешь? – говорю я. – Есть хочешь? Ну, тогда чаю…
Это у меня мамино. Кто бы к нам ни пришел, – сразу кормить. Мама говорит, что дала себе такой зарок в студенческие годы, после того, как в одном доме ее не догадались пригласить к столу. А время было послевоенное, трудное. Вот тогда мама и дала зарок, что из ее дома – если у нее будет когда-нибудь дом, – никто не уйдет голодным.
Ужинать Нина не хочет. И чаю не хочет. Ну, так и быть, за компанию. Брось, давай, какой есть! Ну, завари свежий, пожалуйста!.. Гера, между прочим, тоже любит хороший чай…
– Ты его отучила? – спрашиваю я. У меня ответственный момент: я насыпаю чай в сполоснутый кипятком чайник. Нина мне не отвечает. Обернувшись, я вижу, что она плачет, закрыв лицо ладонями.
– Я уже три дня живу у мамы, – говорит она сквозь слезы. – Мы поссорились…
– Насовсем? – Я просто не могу поверить, что это всерьез. Мне кажется, Нина сейчас засмеется и скажет: «Шютка!»
– Не знаю, – говорит Нина. – Если бы он хотел помириться…
Слезы бегут сквозь ее пальцы и падают на стол. Плачущую Нину я видела когда-то в школе, классе в седьмом. Тогда она плакала из-за двойки по алгебре, и мне не было жалко ее, а даже немного смешно. Теперь я смотрю на Нину, и мне самой хочется плакать. И я ненавижу Геру с его снисходительной улыбкой. Нет, первым мириться он не станет!
– Ну и черт с ним! – говорю я. – Плюнь на него…
Нина отнимает ладони от лица. Заплаканные глаза смотрят светло, удивленно.
– А ребенок? – говорит она.
– Какой ребенок?
– Наш, – говорит она, и в ее голубых глазах возникает подобие улыбки. – Разве я тебе не говорила? Врач говорит, что уже два месяца… Мы с Геркой давно, а свадьба – это так, для родственников…
Новость, что Нина ждет ребенка, поразила меня гораздо больше, чем известие о ее свадьбе и о том, что они с Герой поссорились. Все отступило перед этой новостью. Теперь я вижу, что Нина изменилась. Что-то новое появилось в ее лице. Какое-то другое выражение… Значительное и мягкое. Я пытаюсь представить себе Нину с ребенком на руках. Перед глазами встают все известные мне мадонны с младенцами: «Мадонна Литта», и «Мадонна Грандука», и «Мадонна Конестабиле», и «Мадонна с длинной шеей», и моя любимая «Мадонна с цветком»…
– Я хочу мальчика, – говорит Нина и улыбается. – Я уже имя придумала – Прохор, Прошка… Редкое, правда? Маме не нравится, а по-моему, здорово. В конце концов это мое дело, как его назвать…