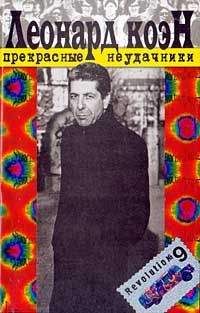– Я слушал с завистью, – сказал Ф. – Знаешь ли ты, что любим?
– Я хочу, чтобы она любила меня так, как я хочу.
– Ты должен научиться…
– Никаких уроков, на этот раз я не собираюсь довольствоваться уроками. Это моя постель и моя жена, у меня есть какие-то права.
– Тогда попроси ее.
– Что значит – «попроси ее»?
– Пожалуйста, Эдит, дай мне кончить тебе в рот.
– Ф., ты отвратителен. Как ты смеешь такими словами говорить об Эдит? Я не для того тебе все это рассказываю, чтобы ты пачкал нашу близость.
– Извини.
– Конечно, я могу попросить ее, это же очевидно. Но тогда она будет под принуждением, или еще того хуже, это станет обязанностью. Я не хочу держать ее на поводке.
– Хочешь.
– Предупреждаю, Ф., я не собираюсь жрать твое трусливое духовное дерьмо.
– Ты любим, тебя зовут в великую любовь, и я тебе завидую.
– И держись подальше от Эдит. Мне не нравится, как она сидит между нами в кино. Это просто любезность с нашей стороны.
– Я благодарен вам обоим. Уверяю тебя, ни одного мужчину она не сможет любить, как тебя.
– Думаешь, это правда, Ф.?
– Я уверен, что да. Великая любовь – не партнерство, потому что партнерство можно уничтожить по закону или разлукой, а от великой любви не избавишься. На самом деле, ты не избавишься от двух великих любовей – Эдит и моей. Великая любовь нуждается в слуге, только ты не знаешь, как использовать своих слуг.
– Как мне ее попросить?
– Плетками, величественными повелениями, прыжком ей в рот и уроком удушения.
Я вижу Ф., за ним окно, его уши, тонкие, как бумага, почти прозрачны. Я помню грязную комнату, снятую за большие деньги, вид на фабрику, которую он пытался купить, на зеленом фетре бильярдного стола с искусной резьбой игрушечным городком разложена его коллекция мыла. Свет проникал сквозь его уши, будто они выточены из грушевого мыльного бруска. Я слышу его фальшивый голос с легким эскимосским акцентом, приобретенным во время арктической студенческой практики. Ты не избавишься от двух великих любовей, сказал Ф. Каким скверным сторожем был я этим двум любовям – невежественным сторожем, что целыми днями бродил по измышленному музею жалости к себе. Ф. и Эдит любили меня! Но в то утро я не услышал его признания в любви или не поверил ему. Ты не знаешь, как использовать своих слуг, сказал Ф., и уши его сияли японскими фонариками. В пятидесятом я был любим! Но я так и не поговорил с Эдит, не смог. Ночь за ночью лежал я в темноте, слушая шум лифта, мои безмолвные приказы тонули в мозгу, как упрямые гордые надписи на египетских монументах, онемевших под тоннами песка. И рот ее метался по моему телу, точно стая птиц острова Бикини[32], чьи миграционные инстинкты уничтожены радиацией.
– Но предупреждаю тебя, – продолжал Ф., – придет время, и кроме этих бесцельных поцелуев ты ничего на свете не захочешь.
Если говорить о прозрачной коже, то горло Эдит было таким – с тончайшим, мягчайшим покровом. Казалось, тяжелое ожерелье из ракушек расцарапает его в кровь. Целовать ее в горло значило вторгаться в нечто личное, костлявое, как плечо черепахи. Ее плечи были хрупки, но не худы. Она не была тоненькой, но как бы ни была полна плоть, главным всегда оставался скелет. С тринадцати лет у нее была кожа, которую можно было бы назвать зрелой, и мужчины, вожделевшие ее (в итоге ее изнасиловали в каменоломне), говорили, что она из тех девушек, что быстро старятся, – так мужчины на углу утешаются, глядя на недоступное дитя. Она выросла в городке на северном берегу реки Святого Лаврентия, где приводила в ярость многих мужчин, ибо они считали себя вправе лапать ее маленькие груди и круглую задницу просто потому, что она была индеанкой, да к тому же А.! Когда ей было шестнадцать, и мы поженились, я сам был уверен, что ее кожа не сохранится. Она обладала преходящей сочностью, которую обычно связывают с тем, что растет и вот-вот пойдет на убыль. В двадцать четыре, в год ее смерти, не изменилось ничего, кроме ягодиц. Когда ей было шестнадцать, это были два полушария, повисшие в пространстве, потом они замерли на двух глубоких изогнутых складках, и то был предел увядания тела, пока ее не расплющило целиком. Дайте подумать о ней. Ей нравилось, когда я натирал ей кожу оливковым маслом. Я соглашался, хотя, на самом деле, не люблю забавляться с едой. Иногда она наливала масло в пупок и мизинцем рисовала спицы колеса Ашоки[33], потом размазывала, кожа темнела. У нее были маленькие груди, какие-то мускулистые, созревшая плоть. Я готов перевернуть стол, когда думаю о ее причудливых сосках, чем я и занят в это самое мгновение – жалкое бумажное воспоминание, а хуй мой без надежды воспаряет к ее искалеченному гробу, и руками я отмахиваюсь от обязательств, даже от тебя, Катрин Текаквита, расположения которой добиваюсь этой исповедью. Ее дивные соски были темны, как грязь, и очень длинны, когда затвердевали от желания, вздымались почти на дюйм, сморщенные от мудрости и сосания. Я вставлял их в ноздри (по одному). Я вставлял их в уши. Я всегда верил, что если бы позволила анатомия, и я мог бы вставить их в оба уха одновременно – шоковая терапия! Что толку воскрешать теперь эту фантазию, невозможную и тогда, и сейчас? Но я жажду этих кожистых электродов в голове! Я хочу слышать, как разъяснится тайна, хочу слышать разговор этих оцепенелых морщинистых мудрецов! Они обменивались такими сообщениями, которых не слышала даже Эдит, сигналами, предупреждениями, похвальбой. Откровениями! Вычислениями! В ночь ее смерти я рассказал об этом Ф.
– Ты мог бы иметь все, что хотел.
– Зачем ты меня истязаешь, Ф.?
– Ты потерялся в деталях. Все части тела эротогенны, или, во всяком случае, могут таковыми стать. Если бы она вставила тебе в уши указательные пальцы, результат был бы тот же.
– Ты уверен?
– Да.
– Ты пробовал?
– Да.
– Я должен спросить. С Эдит?
– Да.
– Ф.!
– Прислушайся, друг мой: лифты, фабричные гудки, вентилятор – в головах у нескольких миллионов просыпается мир.
– Стой. Ты делал это с ней? Вы так далеко зашли? Вы вместе это делали? Ты сейчас сядешь вот тут и расскажешь мне все в подробностях. Ф., я тебя ненавижу.
– Ну, она вставила указательные пальцы…
– На ногтях был лак?
– Нет.
– Был, еб твою мать, был! Не пытайся меня уберечь.
– Хорошо, был. Она вставила красные ногти мне в уши…
– Тебе нравилось, да?
– Она вставила пальцы мне в уши, а я ей, и мы поцеловались.
– Друг другу? Голыми пальцами? Вы касались пальцами ушей?
– Ты начинаешь понимать.
– Заткнись. Какие у нее уши на ощупь?
– Тесные.
– Тесные!
– У Эдит были очень тесные уши, почти девственные, я бы сказал.
– Убирайся, Ф. Убирайся из нашей постели! Убери от меня руки!
– Слушай, или я сломаю тебе шею, ссыкливый вуайерист. Мы были полностью одеты, если не считать пальцев. Да! Мы сосали друг другу пальцы, а потом вставили их друг другу в уши…
– Кольцо – она сняла кольцо?
– Не думаю. Я волновался за барабанные перепонки, у нее длинные красные ногти, она так далеко забралась. Мы закрыли глаза и поцеловались дружески, не раскрывая ртов. И вдруг звуки вестибюля пропали, и я стал слушать Эдит.
– Ее тело! Где это случилось? Когда ты сотворил это со мной?
– Вот что тебя интересует. Это случилось в телефонной будке в вестибюле кинотеатра, в центре.
– Какого кинотеатра?
– «Система».
– Врешь! В «Системе» нет телефонной будки. Там только пара телефонов на стене, они, кажется, разделены стеклом. Вы это делали снаружи! Я знаю этот грязный вестибюль в подвале! Там всегда бродят гомики, рисуют хуи и записывают телефоны на зеленой стене. Снаружи! Кто-нибудь смотрел? Как ты мог так со мной поступить?
– Ты был в туалете. Мы тебя ждали возле телефонов, ели мороженое в шоколаде. Не знаю, что тебя задержало. Мы доели мороженое. Эдит увидела кусочек шоколада, прилипший к моему мизинцу. Она совершенно очаровательно наклонилась и слизнула его, как муравьед. Она заметила шоколадное пятно у себя на запястье. Я кинулся к нему и слизнул, – неуклюже, должен признать. Тут это стало игрой. Игры – прекраснейшие создания природы. Все животные играют, и истинно мессианское видение братства существ должно основываться на идее игры, на самом деле…
– Так это Эдит начала! А кто первым коснулся ушей? Теперь я должен знать все. Ты видел, как вытянулся ее язык, ты, наверное, смотрел. Кто начал с ушами?
– Не помню. Возможно, на нас подействовали телефоны. Если помнишь, одна из ламп дневного света мигала, и тени прыгали в угол, где мы стояли, казалось, будто над нами проносились огромные крылья или гигантские лопасти громадного вентилятора. Телефонные подставки хранили черноту – единственная стабильная форма в изменчивом мраке. Они висели, как резные маски, черные, поблескивающие, как большие пальцы на ногах у зацелованных каменных католических святых. Мы сосали друг другу пальцы, уже слегка испугавшись, как дети, что продолжают лизать леденцы во время сцены автомобильной погони. И тут один телефон зазвонил! Он прозвонил один раз. Я всегда пугаюсь, когда звонят телефоны-автоматы. Так величественно и одиноко, будто лучшее стихотворение малоизвестного поэта, будто король Михай[34] прощается с коммунистической Румынией, будто записка в плывущей бутылке, что начинается словами: «Если кто-то найдет это, знайте, что…»