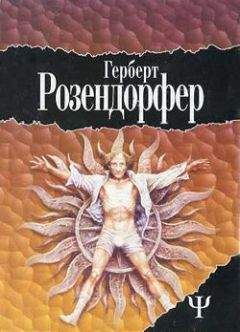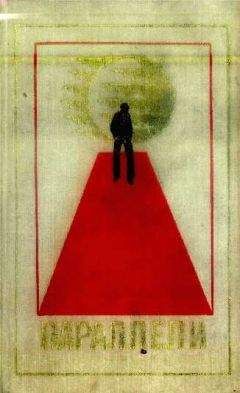Я знаю, зачем ты пришёл. Увы:
Не было ни Иванова, ни Сидорова, ни Петрова,
Был только зелёный луг, и на нём корова.
Славка качает головой:
Видно жизнь твоя нелегка.
Я пришлю тебе молока.
Съешь на завтрак, или на ужин,
Ну, а мне ты лично не нужен,
Ни в тулупе, ни в шушуне,
Не хожу на дорогу. Не.
Бродский:
Гондолу бьёт о гнилые сваи,
Звук отрицает себя, слова и
Слух, а также державу ту,
Где руки тянутся тёмным лесом
Перед мелким, но хищным бесом
И слюну леденит во рту.
Славка:
Бедный Иосиф. Ты всё ещё ищешь свободы
В землях, где пряные травы и пышные воды.
В ласковых землях, где даже в распутицу сухо
Вольному — воля. Но пришлому — лишь расслабуха.
Бродский:
Я, иначе, никто, всечеловек, один
Из, подсохший мазок в одной из живых картин,
Которые пишет время, макая кисть,
За неимением лучшей палитры в жисть.
Славка:
Если вернёшься, я весь свой навоз, всё говно
Отдам под твоё прорастание, но
Помни и ты, что правда не только в говне —
нельзя свободу искать вовне.
Бродский:
Мы жили в городе цвета окаменевшей водки,
Электричество поступало издалека, с болот,
И квартира казалась по вечерам
Перепачканной торфом и искусанной комарами.
Нет, Славка, я не вернусь. Нельзя дважды блевать одним и тем же портвейном. И так далее, и так далее, и так далее…
Оглядывается:
Чайка когтит горизонт, пока он не затвердел,
После восьми набережная пуста.
Синева вторгается в тот предел,
За которым вспыхивает звезда.
Ты пошляк, Славка, и демагог. Скучно с тобой. Прощай.
В подвёрнутых валенках с тусклыми галошами Славка удаляется, хромая, оскальзываясь палкой на брусчатке. Бормочет:
Еврейский мальчик с берегов Невы,
Он заикался в гневе и печали.
Он так хотел, чтобы его на «Вы…»
Друзья ж дразнили, а враги не замечали.
Вот тебе и дорога к величию.
Стемнело внезапно, и сильно похолодало. И всё повторилось, как встарь: ночь, ледяная рябь канала, аптека… Фонарей было мало.
На пьяцца ди Кано один только фонарь освещал загадочные перемещения многочисленных кошек. На первый взгляд хаотичное, движение это, если постоять неподвижно несколько минут, раскрывало некоторую внутреннюю логику, непостижимую пришлому человеку. Напряжение чередовалось с внезапным покоем, нарастающая интрига оборачивалась простодушием, миролюбивое обнюхивание взрывалось вспышкой агрессии. Лица кошек были разнообразны: кругломордые, купеческие с тюркским разрезом глаз — местные, судачьей расцветки миловидные северянки, чернявые, с усиками — явно из Восточной Европы.
Редкие окна светились в чёрном городе. То ли население ложится спать сразу же после вечерней дойки, то ли… Говорят, недалеко, за болотами построен современный спальный район.
Узкий мостик, в полтора человека шириной, ведёт через пятиметровый канал в чёрную щель между домами. В конце мостика можно, перегнувшись, коснуться освещённого тёплого окна, или просто заглянуть в него — занавески нет, скрывать нечего, все свои. Стол с бежевой скатертью, тёмный буфет, оранжевый абажур с бахромой…
Вспоминаются коварные марсиане Рея Бредбери, прикинувшиеся давно умершей роднёй в ностальгическом городке детства.
Но вот в комнату входит девушка в джинсах и топике, следом молодой человек в майке. Девушка ставит на стол кастрюльку, молодой человек подходит сзади и обнимает её. Гаснет свет.
Они живут в этой комнате уже лет четыреста, ничего не меняя и не меняясь, омолаживаясь только за счёт смены поколений. Не забыть сказать Славке: Родина — это непрерываемость традиций, длительность, уверенность во вчерашнем дне.
— Константин Дмитриевич, — уныло попросила Снежана, — заделал бы забор. Опять наркоман свалился замертво на нашем участке.
Плющ сдунул опилки с резной рамы, помял замшевую тряпочку.
— Это, Снежана, традиция, — вздохнул он. — Можно сказать — культура. Милицию вызвала?
— Та вызвала.
— Ладно. Менты уедут — заделаю.
— Вы всегда так говорите…
Плющ рассмеялся:
— Что я могу поделать, Снежаночка, если менты никогда никуда не уезжают.
Художник Константин Плющ ещё недавно был знаменит. Мягкая тихая слава стояла над ним, как погода в сентябре. О нём не писали в газетах, не брали интервью на телевидении, но непостижимым образом на всём пространстве от Одессы до Питера имя его было на слуху.
Никто не мог определённо сказать, каков он как художник, определить качество, манеру и направление в его живописи, но если человек стал легендой — какая разница, что он делает и как…
В последние годы осевший в городе Кимры, Плющ почувствовал, что слава его кукожится, сокращается географически, но не тает, а даже сгущается, меняется качественно, становится, наконец, светом в окошке.
Окошко светило в маленьком доме из силикатного кирпича. Он был построен в девяностые годы специально для Плюща деловым немцем из Кёльна. Почему немец и почему Кимры — об этом позже, но, так или иначе, дом был оценён немцем в три пейзажа Константина Дмитриевича.
Покупатель хорошо пил водку, показывая фотографии своих детей и открытки с видами Кёльна. Плющ был восхищён Кёльнским собором, удивлялся, развлекая немца, что соорудили его на вокзальной площади, поражался долгострою.
— А чтобы его почистить, — размышлял он, вглядываясь в фотографию, — нужно ещё лет триста. Представляешь, сколько у нас за это время можно разрушить?
Очень скоро, разобравшись, Плющ клял своего благодетеля на чём свет стоит — участок в четыре сотки стоял прямо на тропе наркоманов, между вокзалом и цыганской слободой, осевшим табором.
Молодые наркоманы, как муравьи, ведомые генетической памятью, не сворачивали, а пёрли напролом, круша заборы. Табор, где продавались наркотики, назвался Голливудом. В мирных, на первый взгляд, недрах его с курятниками и голубятнями, козами и цепными псами воплощались мистические триллеры, социальные драмы, трагикомедии и фарсы. Говорят, что название это придумал сам Сергей Петрович, цыганский барон, а попросту пахан, цинично имея в виду грёзы, приносящие реальные деньги. Барон жил в затейливом особняке в центре города, напротив мэрии. Он не открывал ногой, как говорили злые языки, двери городского начальства, а входил туда тихо, неохотно и редко — бездарные чиновники его удручали. Мэр же, на призывы общественности разорить этот гадюшник, сравнять с землёй, закатать асфальтом, только руками разводил, — «Голливуд» в основном формировал бюджет города, это вам не обувная фабрика, а километр асфальта знаете, сколько стоит?..
На свет в окошке Плюща слетались местные интеллектуалы, коллекционеры, художники, поэты и просто бездельники, — то, что раньше называлось богемой, а теперь — элитой. Толклись они в городской библиотеке под вывеской шахматного клуба, а к Плющу залетали поодиночке. Впрочем, по пятницам за ним заезжали и отвозили в клуб, где художник Плющ Константин Дмитриевич проводил мастер-класс. Закалка Одесской богемы сказывалась, и шестидесятилетний Костя держался дольше других.
Скоро он заподозрил, что развлекает балбесов, а развлечение такого рода — деликатная форма хамства.
— Знаешь, Снежаночка, — высоким от обиды голосом жаловался он жене, — благотворительность имеет смысл только в материальном выражении. Конкретный взнос в конкретное дело. А вкладывать душу — хоть в просветительство, — сколько надо той души? Кило, полтора? Так и пролететь можно. Ещё должен останешься.
И Плющ нашёл выход — по пятницам он приезжал по-прежнему, но откупался небольшой картинкой в дар обществу и с полным правом пил молча.
Картинки, точнее, этюды он писал загодя, месяца на два вперёд, одной, разумеется, левой. Это был либо морской пейзаж, либо розовая обнажёнка, либо натюрморт с рыбками.
— Достали меня эти Васюки, — приговаривал художник, имея в виду любителей шахмат
Тем не менее, по пятницам он неизменно надевал белую рубаху и старинную фетровую шляпу. Маленький, смуглый, с седой бородкой, он походил на степного ветеринара.
Снежана, сорокалетняя молодая поэтесса, полуцыганка, отвоёванная Плющом у Васюков, только вздыхала: Костик давно ничего не писал серьёзно.