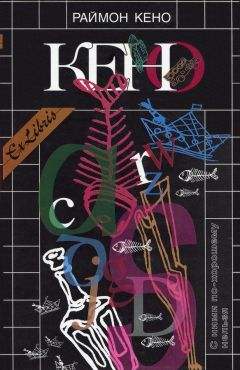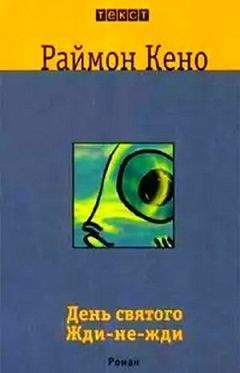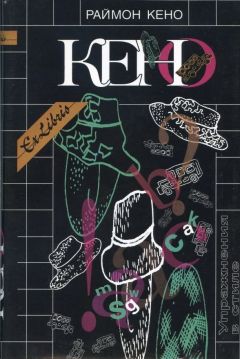— Ты, может быть, хочешь сказать, что я — дикарь?
— Конечно же нет, — сказал Кэффри. — Смотри, какая козочка!
Одинокая молодая женщина решительно шла по мосту О’Коннелла.
— А она — ничего! — заметил Галлэхер, обладающий, как и все уроженцы Инниски, отменным зрением.
— Смелая девчонка, — заметил Кэффри, который умел ценить это качество в других, не находя ничего похожего для сравнения в себе самом.
Женщина дошла до угла набережной Иден.
— Хорошенькая, — сказал Галлэхер. — Вроде бы я ее знаю.
— К нам небось, — сказал Кэффри. — Была бы она чуть-чуть покрупнее.
Она перешла улицу и остановилась перед дверью почты. Покраснела.
— Что же вы, мамзель, — обратился к ней Галлэхер, — разгуливаете в такой день? В Дублине сегодня, знаете ли, заваруха.
— Знаю, — ответила девушка, опустив глаза. — Я уже на себе это почувствовала.
— У вас были неприятности?
— А вы меня разве не помните?
— Мне кажется, я вас знаю, но я никому не причинял зла.
— Вы уже забыли? Вы мне... Вы меня... Вы меня пнули ногой.
— Вот видишь, — сказал Кэффри, — ты был некорректен.
— Вы были здесь с остальными почтовыми барышнями?
Смущенный Галлэхер разглядывал ствол своей винтовки.
— Я вернулась за своей сумочкой, которую забыла из-за вас, мужлан вы этакий.
— Мог бы и сам за ней сходить, — сказал Кэффри.
— Дудки! — ответил Галлэхер.
— Ты не галантен, — сказал Кэффри.
— Как будто дел других нету, — проворчал Галлэхер.
— Британцы ведь еще далеко, — сказал Кэффри.
— Так вы не видели мою сумочку? — спросила дамочка. — Она такая зеленая, с золотой цепочкой, а в ней один фунт, два шиллинга и шесть пенсов.
— Не видел, — ответил Галлэхер.
Ему так хотелось ее пнуть или шлепнуть — это уж как придется — по заднице, но Кэффри, похоже, склонялся к этой чертовой корректности, настоятельно рекомендованной Маккормаком, корректности, которая, чего доброго, превратится в настоящую галантность.
— Схожу посмотрю, — сказал он.
— Да брось ты, — сказал Галлэхер.
На пороге появился Келлехер.
— Что-нибудь не так? — озабоченно спросил он.
— Она потеряла свою сумку, — сказал Галлэхер.
— А она — ничего, — оценил Келлехер.
— Ой, ну что вы! — промолвила покрасневшая барышня.
— Раз вы оба остаетесь здесь, — решил Кэффри, — я схожу и поищу ее сумку.
— Ой, ну до чего же вы любезны! — произнесла барышня, залившись румянцем.
— Как будто дел других нету, — проворчал Галлэхер.
XIVТеперь, когда я уже все сделала, не могу же я оставаться на этом стульчаке. У усталости есть свои пределы. Надо набраться мужества. Мужества. Я должна быть мужественной. Как истинная англичанка. Как подданная Британской империи. О Господи, о мой Король, дайте мне силы. Я встаю. Я спускаю воду. Нет. Не спускаю. Они услышат шум. Это привлечет их внимание. Сила — это еще не значит неосторожность. Между ними большая разница. По крайней мере так говорит Стюарт Милль[*]. Разумеется. Вероятно. Но не сливать воду после того как... гм... это негигиенично. Да. Нет. Действительно. Это негигиенично. Это неприлично. Это не по-британски. Я чувствую, что они рядом. Кажется, я слышу, как они разговаривают. Скоты. Инсургенты. Если они услышат шум сливаемой воды, они вряд ли поймут, что это значит. Они наверняка не знают, что это такое. Все они, наверное, приехали из деревни, а там не существует никакой гигиены. Может быть, кто-нибудь из них приехал чуть ли не из Коннемарры или даже с островов Аран или Блэскет, на которых по-английски не говорят, а коснеют в невежественной кельтской тарабарщине, не ведая публичных туалетов нашей современной и имперской цивилизации, а вдруг кто-нибудь из них приплыл с самого острова Инниски, где, как мне рассказывали, поклоняются укутанному в шерсть булыжнику, вместо того чтобы преклоняться перед святым Георгом или Господом Богом, покровительствующим нашей славной армии. Кроме «Гиннеса» и своих женщин они больше ничего не знают; а все их женщины ходят в гипюре, в гипюре с ирландскими стежками. А это уже выходит из моды. И почему я не поехала во Францию, например в Париж? Здесь не умеют одеваться. А я все-таки кое-что понимаю в новинках моды. Здесь у них одни ирландские кружева на уме.
XV— Что здесь делает эта дурочка? — раздался голос Ларри О’Рурки.
Три товарища вздрогнули, а пост-офисная красотка густо покраснела.
— Что она здесь делает? — повторил Ларри О’Рурки. — Вы что, в бирюльки сюда пришли играть? Впрочем, — добавил он, оглядев девушку, — есть кого бирюлить.
— Ах! — ахнула девушка, которая все поняла, так как в дублинских почтовых отделениях встречается персонал разнополый и барышням приходится иногда знакомиться с современными понятиями о половой жизни.
— Кто вы такая? — спросил Ларри О’Рурки.
— Она пришла за своей сумкой, — сказал Галлэхер.
— Я как раз собирался за ней сходить, — сказал Кэффри.
— У вас есть дела поважнее, тем более что сейчас начнется. Нам позвонили из Комитета: британцы понемногу оживают.
— Ничего они не сделают, — сказал Кэффри.
— Девушка, вам, во всяком случае, было бы лучше остаться дома, — посоветовал Ларри О’Рурки.
— Наконец-то вы заговорили вежливо. Лучше поздно, чем никогда.
— Кэффри, сходи за ее сумкой, и пусть проваливает.
— А я могла бы сама за ней сходить?
— Нет. Женщинам здесь делать нечего.
— Я пошел, — сказал Кэффри.
Почтовая барышня застыла в ожидании, разглядывая этих людей и удивляясь их необычному виду, странным действиям и болезненному увлечению огнестрельным оружием. Она была брюнеткой, с виду довольно фривольная, роста — невысокого, телосложения — пышного и архитектонического, хотя и скрытого под скромной одеждой. Ее лицо украшали вздернутые к небу ноздри, а в общем и целом было в ней что-то вроде бы испанское.
Что бы там ни было, прошитая свинцовой очередью в живот, барышня рухнула на землю мертвой и окровавленной.
Это подоспели британцы. Они долго раскачивались, но в конце концов раскачались; понабежали со всех сторон, управляясь с оружием более или менее автоматически, повыскакивали справа и слева, наводя на инсургентов прицел более или менее гипотетически.
Келлехер, Галлэхер и Ларри О’Рурки сделали три проворных шага назад и захлопнули дверь. Келлехер прыгнул к «максиму» и принялся поливать — о, вы струи смертоносны! — бульвар Бакалавров. Остальные орудия повстанцев, установленные в других местах, обстреливали мост О’Коннелла, на котором, впрочем, никого не было. От парапетов, битенгов и тротуаров во все стороны отлетали осколки гранита и куски асфальта. То там, то сям заваливались британцы. Их сразу же поднимали и уносили, поскольку медицинское обслуживание у британцев на высоте.
Прошитая барышня из Post Office’а продолжала лежать под окнами. Окоченевшие конечности покойной были воздеты кверху. Из-под задранной юбки торчали ноги в черных хлопчатобумажных чулках. Легкий морской бриз ворошил шуршащие кружева. Выше черных чулок виднелась узкая полоска светлой кожи. Из продырявленного живота вытекала слишком, пожалуй, алая кровь. Лужа расползалась вокруг тела, несомненно девственного и бесспорно желанного, по крайней мере для подавляющего большинства нормальных мужчин.
Галлэхер встал у окна и приложил винтовку к плечу. Слева от мушки он заметил несчастную барышню. Ее ноги. Он полез в карман за патронами и наткнулся на некоторое отвердение своего естества. Галлэхер томно задышал, а его бесполезную винтовку неотчетливо повело из стороны в сторону. В силу чего немало британцев смогли подобраться к мосту О’Коннелла.
XVIУслышав выстрелы, Каллинен и Диллон прижались к стене. Отважный командир Маккормак встал и запросто подошел к окну, держа в руке револьвер.
— Они на углу набережной Ормонд и Лиффи-стрит.
— Их много? — спросил Диллон.
— Жмутся по углам. Как и вы.
Он прицелился в британца, пробегавшего между штабелями распиленных досок — строительного материала из Норвегии, но не выстрелил.
— Что толку...
Переведя дыхание, Диллон и Каллинен подобрали винтовки и заняли свои места у окон. Этажом выше пулемет Келлехера выпустил две-три очереди.
— Работает, — с удовлетворением отметил Каллинен.
— К ним идет подкрепление со стороны набережной Крэмптон и набережной Эстон, — объявил Маккормак.
Над его головой просвистела пуля, но, будучи отважным командиром, он высунулся из окна.
— Смотри-ка, малышку отсургучили, — произнес он, заметив тело почтовой барышни. — Как же это ее припечатали? — прошептал он. — Бедняжка. И платье задралось. Если бы не шлепнули, умерла бы со стыда. Это некорректно.