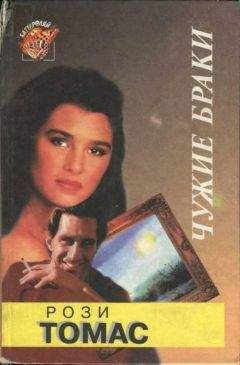Ведь она потеряла не только источник существования, но и верную подругу, и возможность общения со своей покупательской аудиторией. На базаре ведь тоже не всегда выпадали только ясные дни. Но в её одиночестве и это занимало какой-то промежуток времени, имевший признак осмысленного существования.
Вскоре после трагической гибели Стеллы Борисовны в Анину дверь постучалась хозяйка соседней палатки по базару, которой постоянно не везло с наёмными продавщицами. Она у кого-то взяла адрес Анны и пришла уговаривать поработать теперь у неё. Анна поняла, где та достала её адрес. Ну конечно, у прокурорского следователя. Уже несколько раз её вызывали на допрос. В тот вечер Анна только что вернулась с допроса и заперлась у себя:
— Значит, если я бедная и живу в гостинке, то я могла мою дорогую Стеллу Борисовну изувечить и повесить? — разговаривала она сама с собой. — Меня допрашивали, кого видела из подозрительных. С кем Стелла Борисовна цапалась. А она ни с кем. Господи, она мне даже за больничные выдавала деньги, — вздыхала горестно Анна.
И в это неудачное время к ней стала стучаться в дверь хозяйка соседней по базару палатки. Но Аня, в общем-то, совсем неземная, почти небесная, так как никогда не влезала в чужие дела, неожиданно выудила из своей памяти, как эта самая соседка злобно бранилась со студентиком за утерянную копеечную брошку. А потом выгнала парня и не заплатила за целую неделю работы.
— Не открою. Никуда не пойду. Посетительница ушла ни с чем. А для Анны наступили тяжёлые дни новых поисков работы.
Шли годы. Сколько их прошло? А главное, прошла её смазливость, привлекательность и особый шарм, с каким она умела носить даже самый затрапезный наряд. Мужчины больше не обращали на неё никакого внимания. В транспорте не уступали место. А владелица загородного дома, куда Анна устроилась «главной по уборке», не брала её в расчёт как женщину, когда уезжала отдыхать за моря-окияны, оставляя её, престарелую повариху, и охранника с завидным и гладко прилизанным своим муженьком, тем ещё ловеласом.
Возвращаясь с вечери в Успенском соборе, которые она старалась не пропускать, Анна каждый день заглядывала в почтовый ящик и, отодвигая занавеску, с надеждой каждые пять минут вглядывалась в замусоренный общежитский двор.
— А может быть Он там?
Потом отпылала в ней женская жажда нежности, По ночам не мучили эротические видения. Однажды в трамвае её назвали бабушкой.
— Я — бабушка? Я ещё и мамой не была, — заплакала, придя к себе, Анна.
И всё-таки мамой ей пришлось стать, Невольно, нежданно-негаданно, но сладостно!
День был ясным и светлым, На башне водокачки, что торчала недалеко от её дома, соколы и в этом году вывели птенцов — хорошая примета.
Предчувствие чего-то необычного, ожидание перемен охватило нашу героиню в то самое, ясное и прозрачное утро. Вечером она летела домой с работы, почти легко, как в юности, вспорхнула на второй полуэтаж и заглянула в почтовый ящик. Ключа у неё с собой не было, и она, полная необъяснимого предчувствия, шпилькой стала выцарапывать содержимое ящика. Реклама осточертевшая! Какие-то бессмыслицы на цветной лощёной бумаге! И вдруг её шпилька зацепила уголок письма. Пресвятая Матерь Богородица! Сердце рвалось наружу, дыхание перехватило.
— Письмо? Опять почтальонка, наверное, перепутала ящики. Мне-то не от кого ждать, — повторяла про себя Анна, боясь сглазить нечаянную радость и продолжая судорожно вытаскивать конверт.
Земля в следующий миг вздрогнула и поплыла куда-то. Со стороны сцена вышла смешной: пожилая, если не сказать престарелая женщина сидела на затоптанном и заплёванном полу и держала в руках чуть помятый казённый конверт, а на нём — фамилия и имя её Юрасика, её прошлого Счастья, единственного светлого за всю жизнь.
Зинаида — последняя верная из всех её бывших подруг, на счастье, шла откуда-то:
— Анька! Что с тобой? Может, скорую? Та замахала руками:
— Гляди! Письмо какое-то странное, — показала конверт и подала руку подруге. Поднялись на свой этаж. В комнатке Зина пыталась почти насильно заставить вскрыть конверт.
— Нет и нет! Не могу! Господи, вдруг там такое, что я не переживу? Хотя нет! Это его почерк — красивый, ни с кем не спутаешь. В нём всё красиво, и почерк у него тоже красивый.
— Так открывай и читай. Не с того же света написано. Там до сих пор на камнях скрижали высекают. А тут обычной школьной шариковой ручкой подписано. А ну, не дрейфь! Читай!
— Нет, не могу. Ты иди к себе, а я чаю попью с валерианой, полежу, подумаю.
Зина, пожав плечами, нехотя ушла. Как только за ней захлопнулась дверь (это Юрий когда-то поставил ей английский замок), она бросилась, в полуразвалившееся кресло и надорвала конверт.
«Моя дорогая, незабываемая и вечно единственная Аннет!»
Анна зарыдала:
— Я так и знала, Юрасик, что ты никогда меня не забывал! Я в это всегда верила! Я вписана в твоё сердце на небесах!..
Она вскипятила крошечным кипятильником в стакане чай. Стала пить его обжигающим, разливая дрожащими пальцами на блюдце и на замусоленную клеёнку.
«Я пишу тебе из необычного для тебя, мой Ангел, места. Нахожусь в Мордовских лагерях. За что сижу, спроси у парня, что однажды снял со своего плеча костюм и надел на меня.
Помнишь, мы с ним как-то в его квартире правили тебе вывих? Вспомнила? Он тогда назвал адрес своей матери. Ну, ты у меня с феноменальной памятью. И, конечно, запомнила? Надеюсь только на тебя. У меня нет и не было никогда никого, кроме тебя. Сходи по тому адресу. Это — за городом. Сожительница моя (извини), та, что после тебя, (ведь ты моя законная по сердцу, и паспорту, и судьбе, а эта — по обстоятельствам), тоже — в отсидке, но в Красноярском крае.»
Читала Анна, и рыдала, и радовалась, что живой Он, Её Любимый. А если Он жив, то и она жива. А то собралась было помирать.
Стемнело, начал стихать общежитский шум. Только где-то комнаты через три рьяный ревнивец-сожитель, как обычно, опять гонял подвыпившую и совсем не строгих нравов шалавую Людмилу с водокачки.
«Ты же знаешь, как я хотел иметь родных детей. Как только понял из твоих рассказов о твоей травме в детстве, что родить не можешь, я стал подбирать такую „родильную машину“, которая сделала бы меня отцом собственного ребёнка.
Но только через пять лет после того, как я по роковым и неотвратимым, поверь, обстоятельствам оставил тебя, она родила мне сына, Алёшку. Весь в меня!»
Анна давно уже включила верхний свет. Непроизвольно поцеловала Юрину подушку:
— Умница, умница! Оставишь свой след на земле, не то, что я — горемычная, — и она заплакала о себе.
Зинаида в который уже раз царапалась в её дверь:
— Эй! Ты там живая?
Анна резко крутанула дверной запор:
— Ладно, уж заходи.
— Ну, что там? Где он? Что за такой конверт? — тарахтела подружка без умолку.
— Снова сидит.
— Я так и подумала. Помнишь, Каринэ с третьего этажа такой же конверт от Алика из зоны получила? Мы ещё все гуртом читали его на кухне?
— Помню! — отмахнулась Аня, — Но разница в том, что Юрчик у меня не урка и в тюрьме случайно, что меня Юрчик не забывал и не забывает, он одну меня любит. У него никого, кроме меня, не было. Он просто уходил, чтобы заиметь родного сына.
— И заимел? От фонарного столба?
— Да ну тебя, Зинка! — впервые переходя на жаргон огрызнулась счастливая хозяйка гостинки.
— Не томи, читай же! Я и так полночи не спала! «Когда её арестовали, Алёшенька остался со старой больной бабушкой. Вначале мы на съёмных квартирах жили. А когда спутница моя забеременела, я заимел в столице отдельную большую квартиру в центре города. Туда она малыша и принесла из роддома. Жизнь наша постоянно подвергалась опасности. Работали на „опасном“ производстве. Вокруг нас крутилось много плохих людей — всегда могли подставить или замести, да и квартиру отнять. Завёлся у нас в коллективе тогда один прощелыга, как потом оказалось, подсадной.
Так я предложил своей сделать на Тебя, моя Единственная, дарственную на квартиру, как страховку от всякого… Я там тоже прописан, да и Алёшка. Незадолго до ареста мать его непутёвая вдруг нашлась. Алёшенька почти всё время до ареста матери жил у бабушки».
Зинка по-мальчишечьи свистнула.
— Во даёт! А что посадили, то я тебя упреждала. Юрий твой не иначе как с наркотой или чем похуже тогда ещё связался. Посуди сама, где в наш безумный век можно так заработать на тебя и на себя после зоны?!
— Не смей на невинного наговаривать! Мой Юрочка даже Гиппиус, Ахматову и Цветаеву наизусть читал!!! Не мог! Не мог! Понимаешь? Он где-то в секретке работал. По вечерам иногда по памяти чертежи рисовал, а потом — в самые мелкие дрызги и в мусорку, — отбивалась Юрина защитница.
— Ой-ой! Какие мы нервенные! А ну ещё раз, где про квартирку.