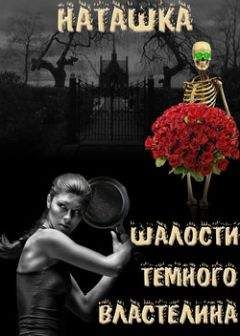По утрам всякий музыкальный звук его раздражал. Он не включал ни радио, ни телевизор, открывал створку окна и курил, глядя на черные рельсы, на черную живую толпу на платформе. Короткий гудок трогающейся электрички, долгий перестук товарного – эти звуки его не раздражали никогда, он легко и мирно засыпал под них.
В час-два он завтракал. Снимал бритвой паутину с лица, принимал душ.
Всегда с закрытыми глазами, ни о чем не думая, ничего не представляя, наслаждаясь шумом воды, не привязывая этот шум ни к дождю, ни к другому какому-либо явлению. Шум, шум, шум… После которого – тишина. И последняя капля срывается в чугунную ванну.
Быть может, подруга не любила его квартиру, потому что квартира была уж слишком его, только ему принадлежала, никто другой не смог бы найти в ней места ни для себя, ни для своих вещей, ни для своих привычек. Квартира была – его внутренний мир, – вместе с видом и звуками за окном, вместе с последней, срывающейся каплей, вместе с гитарой, усилителем, газовой плитой, диваном, шкафом…
Они часто ездили за город на его “Жигулях”. Он любил дальнее
Подмосковье, мало освоенное дачниками, глухомань, с полями, оврагами, рощами. Зимой или в тяжелую ноябрьскую слякоть бродили по
Москве, отогревались в гостях. Было несколько домов, где их всегда хорошо принимали и могли оставить одних в комнате, и в таком чужом деликатном доме им бывало лучше всего.
Звонить ей он не любил. Первой всегда брала трубку ее мать, в чьем голосе неизменно ему слышалась ненависть. Хотя подруга уверяла, что ненависти быть не может.
В Москву с далекой планеты Казанки он вернулся едва зародившимся утром. Платформа у станции была пуста и хотелось добавить – безвидна. Гаражи стояли рядом. Он подъехал, вышел. От усталости, как обычно, руки отяжелели. Он открыл гараж, завел машину и принялся ее мыть с яростной тщательностью. Как будто пыль и грязь были воспоминаниями, которые хотелось стереть.
Она засверкала всеми выпуклостями и вогнутостями. Мягкой ветошью он протер уже невидимые, уже воображаемые пятна. Навел порядок в самом гараже. Перебрал банки, коробки, инструменты, стер пыль, вымыл бетонный пол. Посидел на табуретке у дверей, отдохнул, выкурил сигарету. Собрал в пакеты мусор, осмотрелся, выключил свет.
Провозился он долго, уже образовалась толпа на платформе, электрички подходили одна за другой, но толпа не уменьшалась. Он посмотрел на свои темные окна под крышей.
И дома он тут же, не отдохнув, не выпив хоть чаю, принялся наводить порядок. Все перебрал, перемыл, перечистил. Даже окна. И белье перестирал. Мусора вынес три мешка. Привел в порядок и себя. После душа оделся во все чистое. И ушел. Даже не присел после дороги и трудов.
В этот день он побывал у нотариуса, оформил доверенность на машину на имя Ивана Сергеевича Аверченко, 1965 года рождения, номер паспорта, серия, кем выдан и когда. На имя того же Ивана Сергеевича он составил завещание, по которому тот вступал в права наследства в случае смерти или исчезновения завещателя на срок более полугода. От нотариуса он направился в кафе на Кузнецком, занял угловой столик, взял большую кружку кофе, сэндвич, кусок яблочного пирога. Съел сэндвич и включил мобильник. Телефон мгновенно зазвонил.
– Да, – сказал он, вилкой отделяя от пирога кусок, – это я… ничего, по делам… семейные… трубку дома забыл… почему? Я не человек разве? Я тоже могу забыть… не только голос, я весь усталый… слушай, милая, мне сегодня опять придется уехать, ты не волнуйся, я вернусь, но не скоро… полгода… сказать не могу, а врать неохота. Послушай меня внимательно, этот телефон будет у другого человека, это мой старинный приятель, можно сказать, родственник, Иван Сергеевич
Аверченко. Если тебе что-то понадобится, он всегда поможет. И жить он будет у меня на квартире, и машина моя будет у него в распоряжении… нет, ты у него не будешь в распоряжении, но он у тебя
– будет… бояться не нужно… я звонить не смогу… и писать… и… прости, милая, сил нет увидеться.
Он отключил телефон, допил простывший кофе, взял еще кружку. Пирог ему не понравился, и он его не доел.
В этот день он встретился с женщиной, которая вот уже десять лет сдавала ему квартиру, а знакомы они были почти двадцать лет. Сразу после института он пришел на Мосприбор, к ней под начало. Ей тогда было едва за тридцать, и она казалась ему старухой. Она рассказывала ему о своем ребенке, кормила домашними котлетами, дома набирала его стихи на машинке и говорила, что он страшно талантлив.
Он сказал, что вынужден уехать на полгода, но квартиру терять не хотел бы.
– Я бы хотел, с вашего, конечно, позволения, чтобы там жил мой друг, дальний родственник. Он человек тихий, деликатный. Я головой за него ручаюсь. Вы мне большое одолжение сделаете, если согласитесь.
– Что-то случилось? – спросила она его встревоженно.
– Нет, нет.
Он был смущен ее участием, совершенно им не заслуженным.
В клуб он зашел под вечер и попросил расчет.
Стемнело. Он шел по Мясницкой к Лубянке. Он завершил все дела, со всеми попрощался, оборвал связи и как будто уже не существовал.
Спешить было некуда, поезд отправлялся в 21.15.
Он зашел в “Библио-Глобус”. Народ толкался у книжных стеллажей. Он снял с полки энциклопедический словарь. Открыл на слове…
…ФЕНОТИП – совокупность всех признаков и свойств организма, сформировавшихся в процессе его индивидуального развития.
Складывается в результате взаимодействия наследственных свойств организма – генотипа и условий среды обитания.
Тогда, в сумеречном свете круглой лампы под потолком, Андрей
Андреевич сказал, что по его опыту…
– …а он, поверьте, у меня велик, судьбу изменить невозможно. Ваша личность и есть ваша судьба. Можно повернуть вопрос другой стороной
– нельзя ли, в таком случае, изменить личность? Звучит на первый взгляд нелепо. Ведь изменить личность – это значит, изменить прошлое: условия вашего зачатия, развития в чреве матери, рождения, воспитания, обстоятельств жизни, – всего того, что нас формирует, а лучше сказать – составляет. Нет, изменить эти обстоятельства не в моей власти. Я не волшебник. Я не фантазер, но тоже думаю время от времени, ах, если бы все сложилось иначе, и я был бы другим. Вы даже не представляете, насколько другим. Вы не представляете, сколько в нас таится – других. Других личностей, других судеб. Каждый человек
– сад расходящихся тропок, и порой очень далеко расходящихся. Две клетки – мужская и женская – ваше начало. Из них мог бы выйти другой человек, если бы… Если бы погода другая в момент их слияния, или музыка. Вы лишь один из многих, вариант, возможность, веточка того странного призрачного дерева, в котором только одна веточка и становится видимой, осуществляется.
Затем Андрей Андреевич сказал, что, как ни странно, решение существует. Он сказал, что может сделать видимой другую веточку, другую возможность сделать осуществленной.
– Это ни в коем случае не волшебство. Я воздействую на организм специальным излучением. Я называю это перекодировкой организма. Я меняю не обстоятельства вашей жизни, а свойства вашего организма, как наследственные, так и приобретенные. Фенотип. Вы становитесь другим, собственным братом, если угодно. Другим – с другой судьбой.
Какой? Это я не могу предсказать.
Да разве можно во все это поверить?
Он перешел под землей Лубянскую площадь. Брел в толпе по Никольской.
А как поверить в то, что я умру?
Навстречу шла девочка. Взглянула на него.
Если она мне сейчас улыбнется, не умру.
Она улыбнулась.
Он очнулся в отдельной палате. Первый звук новой жизни – птичья трель. Трепещущий свет сквозь листья. Чистый спиртовой запах. И запах сосновой смолы. Он чувствовал отворенное за изголовьем окно.
Странно, что я себя помню. Знаю, что я гитарист, живу на Маленковке.
Я бы, наверно, не должен это помнить.
Руки лежали под одеялом и казались тяжелыми, обездвиженными, точно приваренными.
Это обычное мое ощущение – тяжелые руки. Где же его ощущения? Где же мой брат? Неужели не удалось? Ящик для излучения называют саркофагом. Я и ложился в него как в гроб – навсегда, но вот я здесь, где солнце, и все еще помню себя.
Он выпростал руку, забыв о ее тяжести.
Она была другой. Не такая бледная. И жилы так не выступают. Пальцы не короткие, но и не длинные, средние пальцы. Кисть маленькая, почти женская. Запястье узкое. Крепкое, но узкое. Чужое.
Он схватился за лицо.
Щетина. Не паутина, а щетина. Настоящая, колючая. Любопытно, какого цвета?
Волоски на кисти были темные, с рыжизной, с медным отливом.
Очень хочется есть, – подумал он. Кто – он?
В праздник Девятого мая на маленькой станции у выкрашенного свежей черной краской паровоза с красной звездой играл небольшой духовой оркестр железнодорожников.
Он уже сидел в поезде и смотрел на оркестр из окна. Он был в новой одежде, с новеньким паспортом в кармане, с новыми линиями на новой ладони. Поезд тронулся, оркестр поплыл мимо. Серый перрон. Багажное отделение.