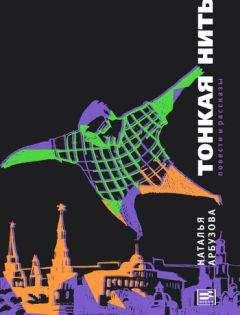30. Прореженные
Старых-то русских практически не осталось. Их так крепко проредили – колос от колосу не слыхать человечьего голосу. Выжили в основном колаборационисты. Племянник Сережа Скурский недавно взвыл по телефону: «Мне сорок лет, я поседел, и я не видел себе подобных». На что я ему отвечала, что мне пятьдесят семь, и я все их потратила на те же поиски. Я всю жизнь сражалась с одиночеством, как белая козочка господина Сегюра всю ночь дралась с волком. Я швырнула в бой все свои войска, и все они были разбиты. Я искала днем с огнем, я сбила себе ноги и практически ничего не нашла. Но я видела такой плакат. Напечатано без пропусков НЕТВЫХОДАНЕТВЫХОДА без просвета на весь лист. Если же приглядеться, в одном месте напечатано раздельно: НЕТ ВЫХОДА. Это и есть просвет. Выход есть, его надо искать.
Война, мать стоит в очереди, я падаю в обморок на пороге булочной. Женщины снимают со своих краюх довески величиной с наперсток и отдают мне. Мы весь день набиваем папиросы. Отец, заводской инженер за шестьдесят, по вечерам меняет их на хлеб у Даниловского рынка. Там стоит черный ворон – в моей памяти длинный и худой маленький автобус. Мы дрожим за отца каждый вечер. Работаем при коптилке, моя задача – засыпать табак в машинки. Мать поет ангельским голосом: «В храм я вошла смиренно Богу принесть моленье, и вдруг предстал мне юноша, как чудное виденье». Тени матери и сестер качаются передо мной на стене.
Отец приносит манку – в глубине опилки. Сосед Перегонов дарит нам подстреленную им из охотничьего ружья ворону. Мы ее варим, она горькая. Это не в Ленинграде, это в Москве. Но цела еще в неприкосновенности отцовская коллекция русской живописи. Вопрос об ее продаже обсужденью не подлежит. Репин, Поленов, Нестеров, Коровин – все цело.
Помню аэростаты в Нескучном саду, заклеенные крест накрест окна, затемнение, помню печку-буржуйку с трубой в форточку. Бомбежки, дежурства отца на крыше. Помню шарящие по небу, перекрещивающиеся лучи прожекторов. Помню первые дни войны – мы прячемся в метро, мать сидит на узлах и не подпускает меня к краю, к рельсам. Значит, ясно помню себя с полутора лет.
Сестра пошла в школу в 43-м году, раньше школа была закрыта из-за бомбежек. Каждой явившейся на занятия ученице выдавалась баранка и конфета-подушечка. Как-то учительница задала нерадивой ученице риторический вопрос: «Зачем ты ходишь в школу?» Та отвечала честно: «За баранкой». Отопленья не было, писали в перчатках. Свет гас, находчивая географичка со свечой и глобусом демонстрировала солнечное затменье. Спускались по темной лестнице все вместе, учительница говорила строго: «У меня есть блокнотик, карандашик и фонарик – я всех могу записать».
Учительница должна была водить учениц в баню, на каждую выдавался обмылок. На урок приходила медсестра, проверяла головы и при необходимости уводила кого-то к себе в кабинет стричь под машинку. Остриженная девочка куксилась до конца урока.
Моя щедрая сестра приносила мне баранку и конфету-подушечку из нетопленой школы 43-го года. Моя добрая трудолюбивая сестра шила мне платья с оборками, производившие на меня неизгладимое впечатленье во времена неизбалованного детства. Моя талантливая сестра в тринадцать лет написала пьесу в стихах о куклоедах, которую я помню наизусть. Моя прилежная сестра прошла со мной в моем отрочестве полный курс филологического факультета педагогического института, где она училась. Моя благородная сестра сумела из дерьма сделать любовь всей жизни, не в пример мне. Вижу, как маячит впереди меня в коридоре времени ее трагикомичная фигура. Будем же любить ее, пока она еще с нами, мы уже довольно пробросались людьми.
Подле нашего дома был разбомбленный, коего фундамент уже покрылся землей и зарос травой. Под ними крылись черепки довоенной фарфоровой посуды – осколки мирного быта людей, Бог весть живых ли. Мы выкапывали эти сокровища, пытались сложить рисунок. Потом перезахоранивали в тайном месте – наши клады. Зимой, когда печальные руины покрывались снегом, мы катались с них на санках. Я даже въехала лбом в стену своего дома. Суди сам, мой читатель, сильно ли это отразилось на моих умственных способностях.
35. По главной улице с оркестром
Близко Малой Тульской, улицы моего детства, находился Гознак. Там печатали деньги. На возвышенье под навесом стоял часовой, как зайчик на пенечке. Каждый день из казарм с Большой Тульской на Гознак под оркестр шла рота караульных солдат. При звуках медных труб я теряла рассудок и сопровождала их от дома до самых ворот Гознака. Вечером они возвращались с оркестром же, и я паки бежала с ними – от дома до казарм. Когда же 1-го мая от фабрик с Варшавского шоссе под музыку шла демонстрация, я шествовала впереди оркестра до Каменного моста. Там меня шугали. Звуки труб могут меня увести от всего на свете. В день страшного суда поднять меня из гроба будет нетрудно.
Если ты, мой читатель, до се этого не знал, знай теперь, что в советское время облигации государственного займа на службе всучивались насильно, деньги же за них вычитались из жалованья в рассрочку. Люди безденежные продавали их за бесценок с рук у рынка, вот как недавно ваучеры. Но если за продажу ваучеров никто никого не сажал, то за продажу облигаций сажали. Это и погубило бедного моего отца. В один прекрасный день мы его не дождались. Его взяли с улицы, и через пару часов пришли с обыском. Описали сохраненную в голод отцовскую коллекцию. Ни в каких музеях ее потом никто не видал, она канула бесследно и бог весть у какого начальства обреталась. Соседка Евгения Михайловна Танберг, притянутая в качестве понятой, с огромным риском для себя спасла умильную васнецовскую Богоматерь. Меня выгнали на лестницу, и там вашу покорную слугу на протяжении долгого шмона дразнили девочки из воровской семьи Бушиных с пятого этажа – вот де и твой отец вор.
Отец попал в кемеровские лагеря. Мы остались в печальных пустых стенах. Мать пошла делопроизводителем в контору домоуправленья – выдавать справки. Днем я сидела у нее на сейфе, или же мы с ней вместе ходили в милицию с домовыми книгами. Вечером собирались сумерничать, но уже не все – мать, две старшие сестры и я. Читали вслух – «Грабеж» и «Пугало» Лескова, «Сверчка на печи» Диккенса, «Ундину» Жуковского. Мать продала много книг из родительского дома. Альбом шотландских акварелей уцелел благодаря тому, что я во младенчестве обстригла ему поля. Мне он теперь в награду и достался.
38. Евгения Михайловна Танберг
Кто-то клал нам в почтовый ящик небольшие деньги, по три, по пять рублей – думаю, что она. Высокая стройная старуха отличалась смелостью, эмансипированностью, нелюдимостью и умеренным нюдизмом. Меня она облюбовала для передачи всех перечисленных свойств. Даря мне, дитяти, стеклярус от старинных штор, она приговаривала бесстрастным голосом: «Мужчины всегда подавляли мою индивидуальность». Я мотала на ус.
Ты, мой читатель, должно быть заметил, что хаос мой просветился и устроился. Я кой-как соединила распавшуюся цепь времен, и вместо сбивчивых излияний из-под пера моего полились довольно гладкие мемуары. Так вот, я стала дриадой. Из города пока не выезжала, как Тристрам Шенди до середины книги еще не надел штанов. Пряталась в парках. Однажды мы с классом пошли гулять не куда-нибудь, а на Канатчикову дачу. Я забылась среди деревьев и не заметила, как все подхватились и ушли. Когда меня потом бранили, сказалась задремавшей на траве, чего на самом деле не было. После этого стала убегать из дому. Нашла дорогу в Нескучный сад – пешком по трамвайным рельсам. Вход был платный. Я висла на кольях забора, разрывая полосами сшитое ангелом-сестрицей платье в оборках. Иной раз, когда по реке шел катер, съезжала на всегда готовом экипаже с песчаного обрыва, становилась на парапет и махала ему рукой. Я была счастлива.
В школе я ушла в глухую оппозицию. Ходила лишь на уроки нравившихся мне учителей, остальное время сидела на школьном чердаке и довольно внятно пела. Частенько меня слышали и за мной приходили. У меня была «оборудованная парта» с прорезью, заложенной вынутым бруском. Я всегда держала под партой раскрытую книгу. Однажды ее отобрали, это оказались «Былое и думы».
Из вырезанной нашей родни, благодаренье Богу, осталась Марина Скурская, моя великовозрастная кузина. Когда ее мать в гражданку умирала от туберкулеза, Марина ходила кругом ее одра, бубня: «Если ты умрешь, я наемся бузины и тоже умру». К счастью для нас, четырехлетняя сиротка своей угрозы в исполненье не привела. Я помню еще сравнительно молодую веселую Марину, играющую с нами в шарады в одной из семейных квартир в Сверчкове переулке. Снуя взад-вперед, Марина одна изображает целую очередь за батонами и хватает поленья в качестве батонов. На Сверчкове переулке жива аура прежней жизни. Квартира уплотнена многочисленными жильцами, имя им легион, однако почти не разграблена благодаря авторитету покойного физика Сергея Анатольевича Богуславского, материного кузена. Елена Анатольевна Богуславская, пока была жива, приютила опальную Марину по приезде из Сибири. В другом аспекте Марину тогда же приютила Зоя Дмитриевна Шостакович. Под ее началом Марина работала в зоопарке, нося пальто с ее плеча и юбку с ее же условно говоря плеча.