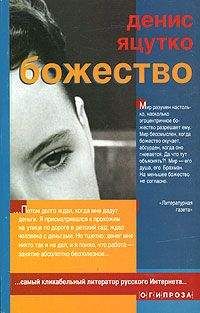В общем мире, который, как я понял, принято называть «реальным» и о происходящем в котором говорят «было наяву», плохого было гораздо больше, чем хорошего. Я всегда, сколько себя помню, знал наизусть священное и нормативное — иначе и не назовёшь — стихотворение Владимира Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо». Я был полностью согласен с этим очень правильным и мудрым стихотворением, но мне казалось, что Владимир Маяковский описал, хотя и правильно, не совсем то… Потому что есть более главные вещи. Потому что «хорошо» — это когда на Новый Год тебе приносят несколько подарков в пластиковых сеточках, в которых лежат мандарины и много шоколадных конфет. «Хорошо» — это когда у мамы оказывается немного денег для того чтобы купить тебе сто граммов конфет не на праздник, а просто так. Особенно хорошо, если эти конфеты — птичье молоко. Я, кстати, всерьёз полагал, что масса, которая в них под шоколадной корочкой, — это действительно полупереваренные червячки и зёрнышки, которые кондитеры как-то вытягивают из зоба всяких птичек. «Хорошо» — это когда ты заболел и тебе дают пертуссин в десертной ложке: он сладкий, вкусный, он впитывается в нёбо, в стенки горла, от него становится тепло в животе и хорошо в голове. Чем больше ты его выпьешь, тем тебе лучше. «Хорошо» — поехать в поле в солнечный горячий день, наловить там юрких зелёных и коричневых ящериц, бросаясь в сухую траву на двигающийся шелестящий шорох, и выпустить их во дворе своего пухлого розового домика. «Хорошо» — наоборот — подобрать обездомленного стройкой сердитого черноглазого ёжика и отвезти его в лес. «Хорошо» — когда дома есть колбаса, только не чайная по рублю, которую надо варить, чтобы съесть, а настоящая колбаса; это даже не просто «хорошо», а «великолепно», «вкусно» и «здорово». «Хорошо» — когда с почты приносят очередной том «Военной энциклопедии»: из неё можно узнать столько, что однокашники по группе в детском саду будут даже не слушать открыв рот, как обычно, а глупо обзываться и кипеть бессильной злобой… Когда на тебя злы тупицы — это очень хорошо. А обзываться самому — плохо. Я однажды попробовал и не получил от этого никакого удовлетворения. Товарищи же мои обзывались часто и аж извивались от этого действия. Бывало, что двое становились друг против друга и повторяли друг другу поочереди слова, чаще всего названия животных или слова, обозначающие субъективную оценку умственных способностей, пока один вдруг ни с того ни с сего не начинал реветь или не бросался в драку. Энергия и энтузиазм, с которым это проделывалось, заинтересовали меня, и я попробовал пообзывать Сашу Стрекозина, который как-то, подойдя ко мне, сказал:
— Ты Давид — в голове динамит.
Сначала я не понял, что он обзывается, а просто принял к сведению, что Саша весьма удачно зарифмовал моё имя. В связи с этой рифмой я вспомнил виденную у художника дяди Жоры, который был другом папы и мамы, картину, где был нарисован высокий злой человек с умными глазами и разрывающимся страшным взрывом затылком, из которого выходили резкие лучи света, которым возвышенно радовались маленькие люди в углах картины. Но когда Саша Стрекозин повторил этот стишок несколько раз, да ещё и указывая на меня пальцем, я понял, что он дразнится и следовательно считает, что эта фраза для меня обидна. Выждав минутку, пока он замолчит, чтобы перевести дух, я сказал ему: «Саша, ты тупой упрямый мальчик, повторяющий, как попугай, одно предложение. Зачем ты это делаешь? Ты об этом думал? Или ты дурак?» Саша очень серьёзно посмотрел на меня и сказал: «Ты неправильно отвечаешь. Надо в рифму». «Зачем?» — изумился я. «Так надо, — сказал он. — Я же начал в рифму. Так все делают». «Саша-простокваша», — сказал я, прислушиваясь к вкусу этих бессмысленных слов, и в тот же миг невыносимо заскучал, так что умер бы, наверное, от скуки, повтори я их ещё раз. Оппонент же мой оживился и с новой силой в голосе закричал: «Давид-динамит». Я встал и, направляясь к полке с книжками, ответил ему обернувшись: «Ты тупой баран, Саша. Но ты этого не понимаешь, поэтому я не буду больше тебе этого говорить». Саша побежал жаловаться воспитателю. Меня поставили в угол. Я был доволен. Жаловаться тоже плохо. В нашей группе была заведена практика: если кто-нибудь пукнет, об этом сразу необходимо было доложить воспитателю, который приказывал пукнувшему идти в туалет и какать. И напрасны были уверения «провинившегося», что он не хочет. В ответ он слышал лишь парадоксальное «Мне лучше знать», после чего силой водворялся в туалет, где насиловал свой организм, пытаясь выдавить из себя хоть что-то, т. к. иначе его не выпускали оттуда, а ведь все остальные в это время играли и веселились — жили. Этот закон научил меня пукать в укромных местах, где этого никто не услышал бы и не унюхал. Хотя в нашей группе были странные дети, которые время от времени ходили и внимательно вынюхивали — в буквальном, чёрт возьми, смысле — кто пукнул. Врать — это плохо. Но соврать, сказав, что пукнул на самом деле не тот, кто пукнул, а «вынюхиватель», — это хорошо. Я делал так, и, поскольку «нюхач» сразу терялся и краснел, а я излагал свою точку зрения спокойно и невозмутимо, верили мне, и «нюхач» отправлялся в туалет — мучить свои кишки. Я зло радовался этому. Злорадство — это плохо. Но испытывать его мне было хорошо. Всё было гораздо сложнее, чем написал в своём правильном стихотворении Маяковский, гораздо… А ещё плохая была мама, чего, по-идее, вообще не могло быть. Она всегда так хвалила меня и папу, но так ругала всех остальных людей, что становилось неуютно и больно: она говорила явную неправду, но говорила с таким убеждением, с такой неприятной гримасой на лице, что я не мог в этот момент ощущать её близким существом и вообще человеком. Я бежал от неё взглядом, порываясь убежать и телом. Слово «гримаса», кстати, тоже связано с мамой. Довольно часто мама делала себе косметические маски. Когда я первый раз увидел этот ужас, я был потрясён и едва сдержал тошноту. Помимо того, что мамино лицо было похоже на какие-то коричневато-розовые помои, от маски ещё и ужасно воняло. Я так ей и сказал: «От твоего лица мерзко воняет». Я тогда ещё не заметил, что одни и те же вещи, но названные разными словами, воспринимаются по-разному. Я ещё не знал тогда, что вонь можно назвать «дурным запахом». Я думал, что дурной запах — это запах болгарских духов, а хороший запах — это запах, например, одеколона «Табак» или кофейных зёрен, вонь же — это вонь, и назвать её запахом я не мог. Мои слова вызвали странную реакцию со стороны мамы: она не пошла сразу смыть с себя эту гадость, а заревела и ревела несколько часов, жалуясь на меня в голос — сначала в пустоту, потом — подошедшему откуда-то папе. Cлово гримаса связано в моём мозгу с тех пор с жуткой косметической маской (оно на него, кстати, и похоже) и с искаженным многочасовым плачем лицом. Гримасы — это плохо. Те, кто корчит друг другу гримасы — дураки. Когда мама плакала, мне было от этого плохо. Но когда она делала эти жуткие дикие маски, мне тоже было плохо, и я пытался, как мог, объяснить ей это. Она не понимала, она говорила, чтобы я ушёл и не смотрел. Куда я мог уйти в домике, в котором мы втроём едва помещались? А на улицу она меня не пускала. А вот, например, чистить картошку мне было то хорошо, то плохо. В моём мире этих проблем не было. Нельзя сказать, что там вообще не было проблем, но там даже они были интересными. Но мой мир неуклонно исчезал, становился прозрачным и призрачным. Находясь в общем, действительном, к сожалению, мире, я уже почти ничего не знал о мире своём, совсем ещё недавно настоящем. Но самым плохим было то, что и об этом, общем мире, я, как оказалось, тоже знал очень мало: я же не собирался в нём жить, меня лишили моего, знакомого мне мира помимо моей воли. Чтобы жить здесь, надо было учиться. Поэтому я скоро пойду в школу.
Детский сад закончился. Мне выдали красную папку с золотой надписью: «За детство счастливое наше спасибо, родная страна!» В папке лежала фотография всей группы, разглядывая которую я всегда нервничал. В центре фотографии была ты, моя Анима… Я никогда больше тебя не увижу. В верхней части фото, возвышаясь над всеми нами, находился ряд лживых лиц существа-воспитателя. В центре этого ряда громоздилась жирная туша заведующей. Их я, к счастью, тоже никогда больше не увижу. Все мальчики на этой фотографии были одеты одинаково — на нас были белые рубашки, чёрные галстуки и чёрные жилеты. Хотя на самом деле жилеты были тёмнозелёные: фотография была чёрно-белая. Девочки же были одеты свободно — кто как хотел; это в очередной раз напоминало мне о различии между нами, о моей бесполезности в этом чужом мире, в котором я должен был жить против своей воли: я непричастен к делу продолжения рода, я потенциальный убийца — многие взрослые так и говорили любому мальчику, который плакал или боялся чего-то: «Ты будущий солдат!» Я не хотел быть солдатом. Я хотел быть архитектором или писателем. Или дворником, на худой конец: это же так здорово — ходить с метлой ранним-ранним утром, когда воздух ещё прозрачный и чистый, когда поют птицы и — самое главное — когда на улице нет людей.