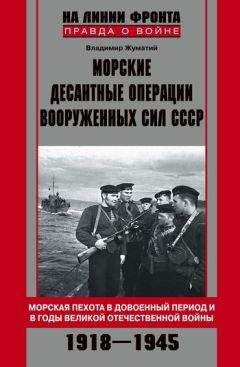- Но когда, что-то я не слышал… - растерялся я.
- Об этом просто ничего не пишут! - сказал он громко. - Замалчивают!
Я не нашелся, что ответить, и сказал:
- Что же, раз они варвары, то и нам тоже все можно, так что ли?
- А как иначе, ведь идет борьба…
И дальше он понес что-то совершенно невообразимое, и мы-таки поссорились в тот раз и очень долго не перезванивались потом, и тут я не могу не вспомнить еще одного своего знакомого, тоже “православного” человека, театрального актера по профессии, на четверть армянина и коренного москвича, довольно начитанного и очень интересующегося… - биографией и идеями А. Гитлера.
(Как он говорит: теперь уже меньше.) Переварили? Идем дальше.
Он сын одного довольно известного театрального продюсера, так что, заметьте, это не от бедности, но у отца, как и в случае первого моего друга, - тяжелый характер, поэтому они почти не общаются. Правда, продюсер купил сыну квартиру, но сути дела это не изменило. (Прямо наказание какое-то с этими отцами. Говорят, кстати, что у г-на Шикльгрубера тоже был довольно жестокий отец.)
Этот Второй (назовем его так) - симпатичный парень и женат на молодой актрисе, простой русской девочке из Твери, но, к сожалению, не такой милой, как жена моего первого друга. Потому что, простите меня, но как и положено “простой русской девочке”, она временами ест его поедом, временами не дает общаться с друзьями, упрекает за безденежье, всерьез советуется насчет него с районным психиатром, вызывает милицию во время скандалов и весь прочий джентльменский набор…
И, может быть, от общей неустроенности жизни (опять?!) он временами несет всякую ахинею, но временами (тоже от неустроенности?) - это тонкий и очень остроумный человек. С ним вообще общение - как по льду ходить. Все нормально-нормально, а потом вдруг как скажет что-нибудь, так хоть стой, хоть падай. И думаешь, даже Бог с ней с личной обидой: ё мое, где они это берут, эту фигню, где?!
Вот, например, недавно, за рюмкой, когда я выразил сочувствие его семейным обстоятельствам, он вдруг сказал мне, что у его жены “есть одно преимущество по сравнению со всеми нами”.
- Какое же? - спросил я, рассчитывая на хорошую шутку, потому что этот мой знакомый, я же говорю, он совсем не лишен чувства юмора, он может пошутить так, что вы будете смеяться просто до колик, до слез… Это же такая редкость!..
Короче, г-н Второй сказал мне, причем, повторюсь, как-то вдруг, что называется, сплеча, что:
- Эта земля из всех нас - по-настоящему принадлежит его жене, она - ее, а мы так - гости.
Я цитирую, повторяю. И опять я не нашелся, что ответить сразу, а потом (немного охренев), сказал что-то типа (будто понимая, даже немного принимая своим ответом эту поганую игру):
- А что же, твой дед, Левон Абрамович, погибший под Москвой в прошлую войну, он погиб за… “чужую землю”?! И почему же тогда его позвали (то есть призвали), тут же призвали, когда что-то случилось - мол, иди Левон, воюй, помогай, мы без тебя не можем - если эта земля - чужая?!
И Второй совсем не смутился, а задумался так вроде бы печально и сказал:
- Почему призвали? Ну, тоталитарный режим, ему было все равно, кем прикрываться, а погиб… да, пожалуй, за чужую.
Что, скажете, я должен был немедленно дать ему в морду, да? (И ему тоже?) Или пожалеть его, бедного (и его тоже?), за его мысли и ощущения? (И самоощущения?)
И он ведь не просто актер, а актер известного и модного московского интеллектуального театра, хотя что с того - он должен все это понимать? Эти элементарные вещи? Или не должен? Или это неважно - и пусть он сам разбирается со своими тараканами? Сказано же: “Пусть мертвые сами хоронят своих мертвецов”. И неважно, что их, таких, сейчас очень много? Некоторые говорят - миллионы… (Не верю.) Или он был прав? Сегодня прав, да?
И главное, брякнув такое, он сядет перед спектаклем в метро, достанет из сумки и откроет не что-нибудь, а “Жития святых” (сам видел!) и, сделав отстраненное и сосредоточенное лицо, будет их внимательно читать. И жена тоже будет сидеть рядом.
И руки ведь не отсохнут, как говорила моя бабушка.
- Но, - скажете вы, - зачем же вы все это путаете? Если какой-то идиот читает духовную литературу и не умнеет от этого, то дело ведь в нем, а не в литературе, правда?
- Конечно, - скажу я. - Но таких, я же говорю, таких сейчас очень много. Много читающих духовную литературу и почему-то ну совершенно от этого не умнеющих. Просто ну совсем. Может, они как-то неправильно читают? Или им как-то не так это преподавали? Или еще что-то?
Может, кто-нибудь знает, почему их так много?
Как-то я мало рассказываю о монастыре. Все о каких-то “друзьях”…
А я даже не знаю, что рассказывать.
Мы по лености пропускали утренние молитвы (о чем я сейчас жалею) и шли на послеобеденные и стояли там, просто повторяя за всеми (так мой приятель сказал) церковно-славянские слова. Иногда что-то понимая, но большей частью просто повторяя про себя слова и все. И так стояли до вечера, а потом заходили в комнату гостевого дома к физику и военному, которые остались вдвоем (как сказал физик: третьего Бог унес), пили там чай и разговаривали, а потом в темноте шли “домой”, то есть к бабушке, у которой снимали комнату, и снег похрустывал под ногами, и, оглянувшись, мы смотрели на белые стены, кресты и башни монастыря, и темные корабельные сосны, росшие по сторонам дороги. Я сейчас чуть не написал “мачты” вместо “башен”, но этот монастырь, он правда был чем-то похож на стоящий в гавани корабль, что было, то было. Большой белый корабль. Постоит и уйдет…
Так прошло три дня, совершенно незаметно, всего три дня, а мне стало казаться, что мы тут давно, и что это хорошо и правильно, и, может быть, даже важно - вставать, умываться и по тонкому ноябрьскому снегу идти в монастырь и стоять там на молитвах, а иногда заходить в книжную и иконную лавку, смотреть книги и немного разговаривать с отцом Игорем, ни о чем серьезном кстати, так, о книгах и всяких пустяках.
Уезжали из монастыря днем, чтобы доехать до ночи. День был серенький, и, как на картинах Саврасова, вокруг старой монастырской колокольни кружились вороны и галки. Нас вышли проводить отец Михаил и отец Игорь.
- Приезжайте еще.
- Спасибо.
Отец Игорь пожал мне руку, а отец Михаил перекрестил нас с женой. Знал бы, что я не крещеный, а жена вообще мусульманка. В смысле, у нее бабушка когда-то в мечеть ходила, когда моложе была. (Сама-то она не очень это все любит. Тоже, как и я - может быть, к сожалению). Или он знал? Ведь мой приятель скорее всего сказал ему. Откуда-то вытащил большую книжку - “Житие Святого Амвросия” и протянул мне: - Это подарок. Наша новинка. - Спасибо.
Сейчас эта книжка стоит над моим столом, и я иногда на нее поглядываю. Надо было попросить у него надписать, - думаю я сейчас, но тогда я почему-то этого не сделал, растерялся, наверное. Не ожидал. Военный шутливо отдал отцу Михаилу честь.
Приятель торопил: скорее, собирались уехать в 12, а уже два, не доедем засветло. Мы сели в машину, тронулись, было грустно, уезжать всегда грустно. Отец Михаил махал нам рукой.
Когда выехали на трассу, я опустил стекло, закурил. И тут военный - он сидел впереди, обернувшись, сказал мне:
- Не надо.
- Почему? - я удивился.
Он приоткрыл полу куртки, и я увидел, что у него там горит маленький огонек - лампада.
- Купил в лавке, повешу дома. - Он улыбался.
Я выбросил сигарету и закрыл окно.
- А мы не купили. Может, надо было?
Но потом я подумал, что это слишком. Все-таки мы не настолько… не могу подобрать слова. Религиозны, да? Вот купили образа. Два. И хорошо.
Офицер радовался:
- Повешу дома, пусть висит. У меня там иконы - и как раз лампада.
Мой приятель вел осторожно, стараясь, чтоб не трясло. Было хорошо так ехать, осторожно, избегая ухабов, зная, что с нами этот огонечек из монастыря. (Все-таки не хотелось уезжать, повторюсь…) Офицер поддерживал его, как ребенка, иногда заглядывал под куртку, как он там. Я спрятал пачку сигарет и было вынутую фляжку с коньяком - как-то не курилось и не пилось при лампаде, и стал представлять себе квартиру этого военного, он сказал, что живет на Чертаново, как он выразился, обычная трехкомнатная квартира в блочной 12-этажке начала 1980-х годов, узенькая прихожая, вешалка, дверь в кухню, потом детская метров 15, потом, как говорят в народе, - “зала”, в красном углу, рядом с вымпелом победителя ленинского зачета 1984 года и фотографией не то Афганистана, не то Средней Азии, теперь иконы, и под ними будет эта лампада, за окном с беленькими кисейными занавесками зимний пейзаж, рядами такие же дома, деревья, снег…
Наверное, он туда ее повесит, в “залу”, думал я, чтобы смотреть и вспоминать монастырь, свечи, иконы, голос дьякона, читающего молитву. Потом я подумал, что странно, что уезжать не хотелось, все же это не совсем наша, не совсем мирская, та к которой мы привыкли, я хочу сказать, жизнь. Как-то они быстро пролетели, эти три дня, хотя вроде что мы делали - ничего, стояли на молитве, немного гуляли, разговаривали с бабушкой-хозяйкой. У нее сын, кстати, работник космической отрасли. На космодроме Байконур работает, серьезно. Она показывала письма, гордилась, давала смотреть карточки внуков. Правда, давно у них не была… О монастыре говорила неохотно: они там все разные, сейчас все думают, что раз монастырь, то все святые. А она рядом живет, видела всякое.