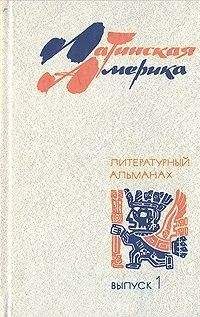Хорошо еще, что в эту зиму нам выпала веселая неделька. Каплей, переполнившей чашу, явилось повышение цен за проезд в автобусе, а ведь и так жизнь до того дорогая, что впору завыть в голос, вот пожар и разгорелся. Сразу, в один миг. Всю эту неделю у меня буквально не было времени даже высморкаться. А от слезоточивых газов приходилось лить слезы, словно бедная вдова.
Капля вскоре превратилась в ручей, а ручей — в бурную лавину. Началась заваруха, власти растерялись. Одно плохо — почему не сказать правду? — мы не сумели предвидеть события, они застали нас врасплох, и в течение всей недели нам так и не удалось разобраться толком в ситуации, понять что к чему.
Первыми начали — была не была! — студенты. Будем бомбардировать автобусы камнями, ну-ка, нажмем, дружок! Остановят автобус, пассажиров долой и — давай! Раз! Два! Три! Сильней! Потом приволокли здоровенное бревно, раскачали, ударили раз, еще раз, еще, еще и, наконец, — бух! Автобус, словно поверженный мамонт, лежит посреди улицы.
Когда не осталось вокруг ни одного целого автобуса, начали валить уличные фонари. Пустяковое дело! Обвяжут столб веревкой, соберутся человек сто, а то и больше, и давай тянуть. Фонари валятся, будто сальные свечки. Полицейские битком набивали машины арестованными, но на смену им тотчас же являлись новые, а потом еще, еще и еще.
На третий день волнение перекинулось в предместья, рабочий класс выпрямился во весь рост, послышался его боевой призыв — вот когда Предателю[24] пришлось по-настоящему солоно. Выпали из его рук вожжи, он растерялся, потерял контроль над столицей. Опрокинутые автобусы, обгорелые, как головешки, лежали на улицах Реколета, Пила-дель-Гансо, Пунта-де-Риель… Кольцом окружали город предместья, где гнездилась нищета и веками копился гнев.
В пятницу снова пошли автобусы, каждый под охраной солдат с заряженными маузерами. Тогда стали свистеть вслед, писать лозунги. Придумали еще одну штуку, рискованную, правда, что верно то верно — запросто можно получить пулю в живот, — засовывали картошку. В выхлопную трубу, а ты думал куда? Автобус проедет несколько кварталов — и мотор начинает задыхаться, чихать, кашлять, наконец останавливается — и ни с места. Такие получались пробки — просто чудо!
Вдобавок как раз в эти дни появились в газетах сообщения о восстании в Боливии, и атмосфера накалилась еще сильнее: «Восставшие держат под своим контролем Кочабамбу», «Шахтеры Потоси закидали гранатами полк солдат». Как тут не поверить в успех!
Но получилось, конечно, как всегда бывает — «поначалу сладость, а потом гадость», как сказал Иуда, когда стал вешаться. Или как сказала старушка, когда у нее пошла кровь носом: «Не оттуда, так отсюда». В шести провинциях объявлено было чрезвычайное положение. Полицейские врывались в дома, арестовывали людей без всяких судебных предписаний. И многое другое началось, столь, же приятное. Тайные ночные расстрелы на кладбищах. В Лоте и в Коронеле — массовый расстрел шахтеров-угольщиков, шахтеров не запугаешь, они всегда впереди. Уволены шестьсот государственных служащих. В Сантьяго прибыли три полка солдат, а также отряды курсантов артиллерийской школы из Линареса и кавалерийской из Кильота.
Восстание было подавлено. Да, подавлено! И зима стала еще сырее, серей и печальней!
Однажды вечером, проходив несколько часов по улицам под тупо моросящим дождем, промокнув до костей, в мокром насквозь, тяжелом, будто свинцовом, пальто, вернулся и к себе в пансион. Подогрел немного настоя ромашки, выпил, чтобы хоть чем-то наполнить пустой желудок, и улегся в постель, навалив на себя одеяла, покрывало, купальный халат и два жилета; попытался было читать и не заметил, как и когда уснул.
В дверь барабанят!
Проклятье! Я подпрыгнул на кровати.
Но нет, ничего страшного. Это всего лишь Маркиз; лицо искажено, брюки в грязи до самых колен. Дрожит так, словно электробур у него в руках. В чем дело? Ограбили его, что ли? Молчит. Ничего не могу добиться. Потрогал его лоб — сорок, не меньше. Я уложил Маркиза в свою постель, прямо в брюках и в старом свитере, напоил горячим чаем и дал четыре таблетки аспирина; его так трясло, что пришлось, придерживая подбородок, вливать чай ему в рот. Потом я приволок из прихожей видавший виды ковер (потертые нимфы плясали вокруг старого сатира), забрал у Маркиза свою подушку — хватит с него и этого — и по возможности комфортабельно устроился на полу.
Маркиз тяжело дышал. Грудь высоко поднималась, вздувалась, словно шар, и снова опадала, тут, рядом со мной, на расстоянии метра. Я твердил себе, что тип этот сумел же выжить на Андском плоскогорье, и все-таки умирал от страха, не решался уснуть — а вдруг, проснувшись, я встречу навеки остановившийся взгляд его зеленых глаз. Навеки. Да, брат, к тому, видимо, шло дело.
Маркиз начал бредить. Говорил непонятно, странно, что-то о девушке капризной, резвой, будто маленький зверек: где твоя норка, хитрый зверек? Все перепуталось, смешалось, и не найти к ней дороги… Потом послышались слова: анапест, амфибрахий, силлогизм. Последнее он повторял без конца. Тянул в отчаянии руки: «Мама, не надо играть с червями, мама».
Проклятый ковер протерся до самой основы, ноги у меня совсем заледенели, я встал, чтоб надеть еще пару носков. Заодно потрогал лоб Маркиза. Аспирин подействовал, Маркиз обливался потом, как доменщик у печи. Вдруг он открыл один глаз и потребовал трубку. «А ну тебя!» Я снова завернулся в ковер и сразу уснул.
Не мог же я после всего этого выгнать его на улицу! Попросил поставить в мою комнату еще одну кровать; кресло пришлось убрать, а я так любил читать, сидя в нем вечерами. Донья Памела, предупредительная, как всегда, сказала: пусть Маркиз живет в пансионе даром две недели. Иногда она сама готовила ему какой-нибудь суп. Особенно по вкусу пришелся Маркизу суп из бычьих хвостов. Хлеб, сыр, суп и аспирин сделали свое дело, и через неделю Маркиз выздоровел. И все время сиял, радовался чему-то. Как-то раз донья Памела принесла ему тарелочку картофельного пюре с яйцами и сказала: «Чувствует, что нашел наконец пристанище».
— Что такое силлогизм, Маркиз?
— Зачем тебе?
— Хочу знать. Не знаю и хочу знать.
Он отвечал монотонно, будто читая энциклопедический словарь:
— Силлогизм есть форма логического заключения. Но ты никогда не пытайся говорить силлогизмами. На то существуют разные глаголы. Сократ говорил силлогизмами. Я говорю силлогизмами. А тебе не надо. У тебя интуиция, чутье.
Наконец Маркиз совсем оправился и в первый раз вышел из дому — я пригласил его поесть китового мяса. Ничего особенного, китовое мясо теперь в моде, а ресторан у нас рядом и недорогой. Маркиз с жадностью ел. Даже удивительно, сколько в него влезало. «Это протеины», — приговаривал он всякий раз, беря еще кусок. От вина Маркиз раскраснелся, разговорился, долго рассказывал о гражданах города Солнца, о Крокодилополисе, я думал, он все сочиняет, но нет, оказывается, этот город в самом деле существовал; потом завел речь о вдохновении свыше, о непознаваемой силе и «оккультном» золотого века в истории Египта, когда голода, старости, ядовитых змей и хищных ящериц еще не было. И даже тернии в те времена не кололись.
Я хотел было посмеяться над такой эрудицией, сказать, до чего же он надоел со своими фараонами, но тут Маркиз тронул меня за локоть — за соседний столик села молодая женщина, крепкая, с пышными формами и кроткими огромными креольскими очами. Маркиз повернулся к ней и принялся восхищаться коралловыми бусами, выделявшимися на фоне старенького шерстяного коричневого платья. Смуглянка благодарно улыбнулась — блеснули белоснежные зубы.
— Видишь, подействовало, — шепнул мне Маркиз, сияя. — Без промаха, психология. Начни я хвалить ее глаза или фигуру, она бы и слушать не стала, а может, даже, наоборот, рассердилась бы. Ну, а коралловая нитка стоит треть ее недельного заработка; долго она думала да рассчитывала, пока наконец решилась на эту покупку, и, конечно, М ужас до чего хочется, чтобы кто-нибудь обратил внимание на ее бусы. Ну, ты теперь ступай отсюда.
Маркиз попросил разрешения пересесть за ее стол, смуглянка кивнула, Маркиз прихватил с нашего стола бутылку вина — там оставалась примерно половина, мы заказывали две. Я расплатился и встал. Задержался немного в дверях — хотелось посмотреть, что будет дальше. Полузакрыв глаза, женщина нервно перебирала свои кораллы, Маркиз шептал что-то ей на ухо.
Вернулся Маркиз в полночь. Я услыхал в коридоре шаги и сразу узнал особую мягкую его походку.
— Ну, как было дело?
Он ничего не ответил, глядел победно и чуть не лопался ОТ самодовольства.
— Я уж вижу. Повезло тебе, дьяволу. Давай рассказывай.
— Проводил ее до фабрики. — Маркиз лег, завернулся и одеяло. — Она на текстильной фабрике работает, в конце улицы Сан-Пабло. Рассказала, что завтракала в ресторане потому, что сегодня ее именины, ну, я дождался конца смены, встретил ее у ворот фабрики и преподнес гвоздику. В цветочном магазинчике на улице Монеда добыл, знаешь, там старуха подслеповатая торгует, и не заметила даже, как я у нее экспроприацию произвел. Пригласил я смуглянку в кино.