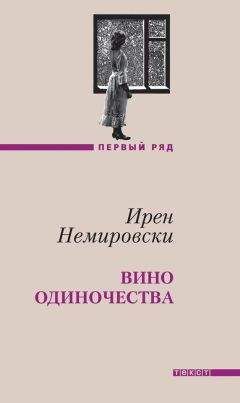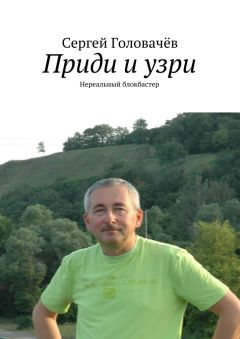Я думала о том, что все огни, цвета этих огней, нити света, сети, все это взаимосвязано, каждый огонек светит сам по себе, но между ними есть связь. И я погружалась в это сплетение, стояла зимними ночами в комнате у окна и смотрела на огоньки, ползущие вниз. А там была вода и полная тьма.
Я подошла к письменному столу и увидела конверт с бумагами. Материалы к очередной встрече пасторов. Я уже прочитала их, когда получила. Конверт лежал поверх других бумаг, разбросанных по всему столу: листов диссертации, материалов, посвященных бунту саамов сто пятьдесят лет тому назад. В этом году встреча пройдет в том самом месте, где произошел этот бунт, — в поселке, расположенном в самом центре высокогорного плато. Семинар не имел никакого отношения к тому восстанию, которое я изучала уже много лет, и вот мне впервые предстояло оказаться на месте событий.
«Рано утром в понедельник 8 ноября толпа финнов ворвалась во двор дома, принадлежавшего хозяину лавки. Финны напали на лавочника и жившего в его доме ленсмана[4], кои оба находились во дворе. Финны убили и лавочника, и ленсмана, после чего сожгли дом лавочника, завладев частью домашнего скарба и товарной наличности. Жену лавочника и прислугу отвели в близлежащий пасторский дом, где заперли в гостиной вместе с семьей пастора и служанкой. Засим отстегали всех кнутом. Кроме них финны захватили в плен и других лиц — случайных приезжих, а также и окрестных жителей, не успевших сбежать из своих домов, — и заперли их в гостиной пасторского дома. Всех сех лиц также били кнутом. Сии происшествия продолжались до вечера оного дня»[5].
Таково было описание событий, которым была посвящена моя диссертация. В этом восстании саамов многие ниточки конфликта между саамами и норвежцами сплелись в один узловой вопрос — и этим вопросом был язык христианства. Мы проходили этот бунт на первом курсе, по истории религии — он считается одним из многих примеров кровавых столкновений, имевших место на севере. Однако меня этот конфликт задел за живое, мне казалось, что здесь скрывается что-то, в чем я обязана разобраться. Как будто он касается меня лично.
«Среди финнов в последние годы возникло религиозное движение, вызванное осознанием того, что они жили не по-христиански. Однако сие движение не ограничивалось обращением отдельных людей в истинную веру и их исправлением путем спокойного и благоразумного погружения в моральные и религиозные размышления в одиночку или вместе с другими. Довольно скоро сие движение вызвало у некоторых из таким образом пробужденных надменность и спесь, и их ревностные стремления внушили им мысль о том, что они призваны способствовать пробуждению и обращению ближних своих, и они осуществляли сие призвание самым неистовым образом — проявляя излишнее усердие и угрожая, а порой еще хуже — убивая и поджигая. Упорствующие и те, кто не хотел тотчас же обращаться, избивались кнутом, пока они не признавались в своих грехах, ибо покаяние в грехах считалось первым шагом на пути к обращению, так же как порка кнутом или розгами — обычным наказанием за нераскаянние. Во время обращения надобно было, чтобы предмет оного взывал к Иисусу Христу о помощи. И сим вновь обращенным они говорили: „Бдите! Обращайтесь! Исправляйтесь!“»
Во время бунта были убиты лавочник и ленсман. После суда двум саамам отрубили голову, многих присудили к уплате штрафа и отправили на юг страны в тюрьмы, смирительные дома и на исправительные работы. Присланные в конверте материалы содержали переписку между пастором и епископом до той ноябрьской ночи, когда случился бунт, и после нее, а также записи, сделанные во время судебного разбирательства, допросов и всего судебного процесса.
Все это означало, что выслушали только одну сторону. Но была и иная версия, версия другой стороны, которая не была ни записана, ни подтверждена документами. Эта версия читалась между строк в переписке пастора и епископа, и у меня был единственный способ как-то до нее докопаться — попытаться прочесть то, чего там не было, понять нечто ускользнувшее из их строк. Я старалась читать эти документы как многослойное повествование: читала написанное пастором и сквозь строки угадывала то, что он не стал писать, выпустил. Я обращала внимание на то, как он писал, какие слова выбирал, какой смысл в них вкладывал и какое впечатление создавалось в результате. Я читала оба рассказа — написанный и другой, скрытый и в сказанном и в недосказанном.
Да, но что я имела в виду, говоря, что камнем преткновения стал язык, если высказалась лишь одна сторона — сторона, облеченная властью?
Библия была переведена на саамский язык, и саамы приобщились к всеобщему языку, где есть такие слова, как «грех» и «вина», «обращение», «прошение». «Средь арестованных есть такие, кто благодарил меня, ибо я дал им Новый Завет на их родном языке и возможность судить».
Саамы освоили те же слова, что и норвежцы, слова, обозначавшие вещи, нечеткие и неясные, все то в жизни, что так трудно поддается определению. Теперь саамы могли воззвать к справедливости и потребовать равноправия, ибо разве не написано в Библии, что они такие же люди? Если власть сама пришла к ним и дала им этот язык и эту веру, неужели она не захочет их выслушать?
Библия придавала вес их требованиям. А они решили использовать данный им в Библии язык и добиться того, чтобы все написанное в Библии и касающееся всех смогло осуществиться.
Но так не вышло.
Мне казалось, что я легко могу поставить себя на место пастора, норвежца, пришельца с юга, но также и саамов, особенно их. Мне ли не понять их бессилия и отчаяния, особенно глубоких, поскольку надежда и ожидание были так сильны.
Я явственно ощущала, как Книга изменила всю их жизнь, расширила их кругозор и дала им надежду. Надежду быть услышанными. Надежду быть понятыми. Есть ли что-то сильнее этого?
Изучать этот конфликт было все равно что касаться сгустка спрессованных идей. Пытаясь понять, что означал для них язык тогда, я размышляла над тем, что означает для нас язык сегодня. Для меня лично. В какой степени он способен нести, передавать, вмещать смысл. Что означают слова и что мы с ними делаем, когда разговариваем. Почему мы не понимаем друг друга?
В своей работе я поставила задачу более узко — изучить, как стороны использовали язык Библии: аргументы норвежцев и саамов и властных структур. Я хотела понять, что в языке оказывает на нас воздействие, не на конкретно семантическом уровне, а на другом, более общем, заданном текстом.
Итак, мы — тела в пространстве, тела, познающие и познавшие. Однако мы не представляем себе всю картину, мы видим так мало, мы действуем, говорим, делаем и существуем в плену тех значений, которых мы не замечаем и не понимаем.
Я вспомнила зеленые глаза Кристианы, когда мы поздним зимним днем ехали на машине домой из монастыря, как она разговаривала, какой была веселой, легкой и как у меня тоже стало легко на душе, потому что до этого я, как в глубоком снегу, брела и утопала в моих собственных мыслях. Я сама поставила перед собой эту задачу и должна была разобраться. Я словно стояла в снегу посреди равнины и вглядывалась в то, что случилось давным-давно и что я могла увидеть, истолковать, но не понять до конца.
Я знала Кристиану всего сорок дней.
Стопка бумаг в пластиковых папках, на которой скопилась пыль, желтый листочек с поручениями — кому что надо сделать в те три дня, пока я буду отсутствовать, на другом листке — список встреч, которые пришлось отложить или отменить.
Рядом — стакан с недопитым виски, исписанная ручка, несколько карандашей.
Я посмотрела вниз, на фьорд. Кто-то сказал мне однажды, что только здесь, на севере, можно что-то увидеть на небе. Местность-то здесь почти плоская, она просто лежит перед тобой, и все. А в небе что-то двигается, меняется освещение, облака проплывают мимо и исчезают.
Несколько раз я пыталась сказать самой себе: посмотри-ка на небо, там что-то происходит? Но нет, это не для меня. Небо существует само по себе, оно далеко, высоко. Я не имею к нему никакого отношения. Я больше люблю все то гладкое и плоское, что находится внизу. Землю, вереск, просторы. Большое открытое пространство. На которое можно долго смотреть. И оно нигде не будет кончаться. Море и вода, фьорд, полоски земли по другую сторону фьорда, такие же плоские, как здесь.
Я редко говорю с кем-нибудь об этом. Но иногда упоминаю в разговоре, что мне нравится плоская местность. Я так проверяю, не родственная ли передо мной душа. Иной раз мне отвечают заинтересованно, и по глазам ясно, что мы оба понимаем, о чем речь. Безграничное ровное пространство, которое существует для того, чтобы в нем быть. А иногда смотрят на меня так, как будто я сказала какую-то ерунду. И тогда я больше ничего не говорю. Жду, пока останусь наедине с собой.