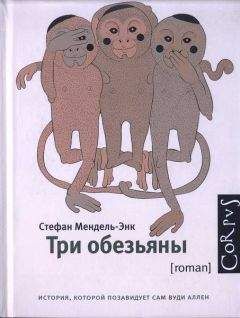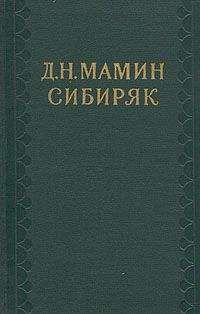Корзина Зельды стояла в проходе прямо за турникетом. Она подпрыгивала, когда я входил, и виляла хвостом, высунув толстый язык. От этого упражнения ей так хотелось есть, что она тотчас протискивалась через широкие белые жалюзи, висевшие перед конторой Заддинского, и клянчила несладкое печенье из пакета на его письменном столе. Я слышал, как они препирались. Заддинский старался говорить строго, но не мог скрыть благодарности за перерыв в работе. Когда я проходил мимо, он просовывал свою круглую как шар голову сквозь жалюзи и комментировал мою одежду, прическу или мой большой рюкзак: «Хе-хе… Это ты несешь сумку или сумка несет тебя?»
Наши занятия проходили в помещении на втором этаже. Третья дверь слева по коридору с желто-зелеными стенами. В комнате были расставлены работы учеников прежних выпусков. Плохо выполненные копии фотографий. Линованные страницы с записями, сделанные аккуратным почерком. Бен-Гурион потерял свою мать в возрасте одиннадцати лет… Моше Даян потерял свой глаз во время Второй мировой войны… Несмотря на все уловки, Голде Меир не удалось донести смысл своего обращения до иорданского принца…
Той осенью у нас началось израильское страноведение. В группе было двенадцать человек. Мы собирались каждый четверг вечером и занимались два часа. То же самое время, тот же день недели и те же двенадцать учеников, которые в течение семи предыдущих лет изучали иудаизм и иврит.
Точно так же, как и раньше, нам преподавала фрёкен Юдит. У нее были длинные темные волосы, которые она перехватывала большой заколкой на уровне лопаток. Почти всегда она носила обтягивающие брюки из блестящей материи, застегивая их высоко над талией. Создавалось впечатление, что у нее два живота, один над тонким поясом, а один под ним. В предвкушении сигареты во время перерыва она вертела ручку или мелок.
В течение года Юдит должна была знакомить нас с современным Израилем — его историей, географией, политической системой, важнейшими статьями экспорта — и помогать нам собирать деньги, необходимые на поездку в Израиль на пять недель летом.
Я сидел почти в самом конце ряда, у двери, вместе с Юнатаном Фридкиным. В начальных и средних классах мы ходили вместе и в обычную школу. Несколько раз в неделю после уроков шли к нему домой. Под кроватью он держал целый ящик с американскими комиксами и музыкальными журналами, которые получил от родственника. Как-то теплым весенним вечером мы играли в саду в футбол с его младшим братом, и тут домой пришла его мама — Тереза. Она достала почту из ящика и стала ее просматривать по дороге в дом. Остановившись на маленькой каменной лестнице перед входом, она прочла вслух из одного письма о том, что Юнатана приняли в школу в городе.
Юнатан продолжал играть, не говоря ни слова. Тереза подошла к нам и повторила новость. Сначала в ее голосе звучал энтузиазм, затем вопрос, а потом раздражение. Через какое-то время она тоже замолчала. А потом велела нам идти вместе с ней в дом. Из груды бумаг на разделочном столе она достала маленькую бело-голубую тетрадку, присланную молодежным объединением, и показала нам все лагеря и мероприятия, в которых мы теперь, став подростками, можем участвовать.
Летом мы вместе поехали на четыре недели в еврейский лагерь в Дании. На рождественские каникулы мы, может быть, поедем в лагерь в Сконе. На спортивные каникулы мы узнаем, не устраивает ли община в Стокгольме какую-нибудь поездку на лыжах.
Но Юнатан еще не решил, переедет ли он со мной в Израиль после гимназии. Я поеду сразу, примерно через месяц после окончания гимназии, как сделал Рафаэль. Папин папа похвалил это решение в своей речи на моей бар-мицве. «Мне не хватает слов, чтобы выразить ту радость, какую ты нам доставил, уже сейчас высказав четкое желание выбрать еврейское будущее». Говорил он долго, и я не мог сосредоточиться. Папа одобрительно кивнул, когда официант остановился рядом со мной с бутылкой вина, и я поднимал свой бокал за лехаим всякий раз, когда встречался глазами с кем-нибудь из присутствовавших.
Утром в день бар-мицвы я проснулся в прекрасном настроении. В синагоге, когда я собирался читать свой отрывок, раввин поинтересовался, не волнуюсь ли я. Я не понял, что он имел в виду. А что мне нервничать? Мы же полгода тренировались. Я знал мой отрывок из Торы, будто он впечатался мне в позвоночник. Заметив, что я не понял вопроса, раввин рассмеялся.
Специально для этого дня мы с мамой купили мне одежду. Рубашка с короткими рукавами, светлые брюки и красный галстук. Клетчатые ботинки с двумя кисточками у выреза. Довольно дорогие ботинки, но мама сказала, что потом я могу ходить в них в школу. Они хорошо смотрятся с джинсами.
Почти на всех праздниках бар-мицвы и бат-мицвы[18], на которых я присутствовал, спустя какое-то время после начала ужина наступал момент, когда один из членов семьи вставал и произносил что-нибудь экспромтом. Это был не спич в традиционном смысле слова, а скорее стремление высказаться, и немедленно, возникавшее во время приема пищи. Такие речи начинались вполне обычно. Конфирманта хвалили за сегодняшнее выдающееся достижение и выражали свою благодарность за то, что их пригласили на праздник и дали насладиться фантастической едой. Когда с этой частью было покончено, выступающие обычно сжимали ладони перед подбородком, смотрели в стол и произносили: «Но».
Именно тогда, после произнесения этого короткого слова, у них в горле вставал комок, и им приходилось брать маленькую паузу, чтобы восстановить дыхание. Когда они были в состоянии снова говорить, то называли имя какого-нибудь старого умершего родственника, и тут прорывало все плотины. Все остальное, что накопилось у них на душе, произносилось с рыданиями. Как жаль, что именно покойный не может присутствовать на этом торжестве. Именно покойный по-настоящему оценил бы это. Именно у покойного было особое и близкое отношению к объекту празднования.
На моей бар-мицве никто ничего такого не говорил. На ней были все — мамина мама и мамин папа, папин папа и мамэ, тетя Ирен и тетя Лаура, мама и папа, Рафаэль и Мирра, — они все сидели рядом с торца длинного стола в банкетном зале. Папа поправил мой локоть, который все время норовил соскользнуть с подлокотника. Мама похлопала меня по щеке. Закончив говорить, папин папа наклонился через маму. Он дал мне текст своей речи и сказал, что дома я смогу прочесть ее снова.
Я решил, что первый год в Израиле буду работать в кибуце. Как следует выучу иврит. Буду ухаживать за скотом или помогать на кухне. Я представлял себе листок на выцветшей от солнца доске объявлений у входа в столовую. Я запишусь на нем, и в один из вечеров меня позовут на лужайку на встречу с полковником в шрамах, который все видел и во всем участвовал. Он скажет нам, что не хочет лгать, не хочет делать вид, что нас ждут одни только подвиги и слава — есть и другое. Ужасная сторона, опасная сторона, и он расскажет, чтобы быть уверенным, что мы знаем, что делаем и во что ввязываемся, и подойдет к каждому для отдельной беседы и остановится передо мной, присев на корточки в мягкой вечерней траве. А я посмотрю в сторону бараков поодаль, где мы с друзьями обычно проводим вечера, — курим, разговариваем и поем в свете мерцания стеариновой свечи, вокруг нас стрекочут кузнечики, а над нами тысячелетнее израильское небо в звездах. Я скажу полковнику, что понимаю, что играм пришел конец, что меня ждут серьезные дела и что это моя судьба, нельзя уйти от того, что ты должен сделать. «Мазаль тов», — скажет полковник и обнимет меня. «Добро пожаловать в нашу команду».
Я стремился к этому. Сильнее всего я предвкушал поездки домой на лето. Пройдя паспортный контроль в аэропорту «Ландветтер», я пойду по проходу к эскалатору, ведущему вниз к транспортеру, в зеленой рубашке с желтыми ивритскими буквами на груди. Все остальные будут ждать меня по другую сторону прозрачной стены. Посмотри, вот он, как же он вырос, как стильно одет. В машине по дороге домой я раздам подарки и пущу по кругу маленькую фотографию моей новой девушки.
Единственное, что беспокоило меня в армии, был огонь. Рафаэль рассказывал об учении, когда всем надо было бежать сквозь горящий напалм. Я пытался представить это, засыпая в кровати. Один за другим в пламени исчезали мои товарищи, пока не пришел мой черед; Давай же, Якоб, думал я. Ведь все справляются. Может быть, это даже не настоящий огонь, а что-то вроде водопада в Сказочном замке в парке аттракционов Лисеберг, сквозь который ты проезжаешь, оставаясь сухим. Но даже в моих фантазиях ничего не получалось. Я стоял как вкопанный и смотрел на пламя.
«С результатом шесть — четыре победила линия Бен-Гуриона», — объявила Санна Грин и записала на доске: 6:4.
Она стояла у доски в кофте, крепко завязанной за плечами, с пачкой светлой бумаги в руках. Она рассказывала о том, что двести пятьдесят гостей ждали Бен-Гуриона в том музее Тель-Авива, где он должен был провозгласить рождение нового государства. Их призывали хранить церемонию в секрете. Иначе существовал риск, что британцы положат всему конец. Они считали, что слишком рано провозглашать независимость. США тоже так считали. Они предупреждали, что заморозят выплаты, если евреи так сделают. Никакого оружия не поставят, если начнется война.