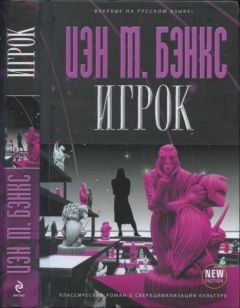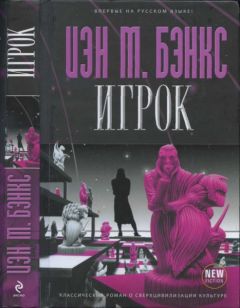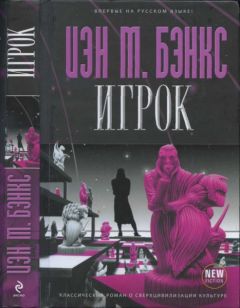— Еще бы — блондинка с «ирокезом» на голове.
— Нет, брюнетка.
— Опять? — Ол качает головой, делая глоток. — Она натуральная блондинка.
— Чокнутая, что ли?
— Малость с приветом. Однажды покрасилась в серо-бурый, просто ради интереса.
— А в чем интерес-то?
— Откуда я знаю?
— Ладно. Проехали.
— Проехали.
— Так вот, Бабуля меня просила с тобой кое-что перетереть. Тут наклевывается одна тема. Тебя тоже касается. Возможно, ты даже захочешь вписаться.
Мобильник Филдинга снова вибрирует, но остается без внимания.
— В самом деле? — скептически переспрашивает Ол.
— В самом деле, и думаю, ты согласишься, когда услышишь…
— Разговор надолго?
— Минут этак на несколько.
— Тогда подожди. Схожу отолью. — Олбан встает, осушая кружку, идет к выходу, но потом спохватывается. — Не возьмешь мне еще кружечку?
— Хорошо-хорошо.
Олбан направлялся в мужскую комнату гостиницы «Салютейшн», вздыхая и поглаживая бороду. Улыбнулся пробегавшей мимо официантке, отыскал туалет, на мгновенье помедлил у писсуаров, но потом заперся в кабинке. Садиться не имело смысла — в сортир он пришел не по нужде. Он вытащил из кармана письмо и бочком опустился на крышку унитаза. Щурясь в тусклом свете, пробежал глазами обе стороны плотно исписанного листка. Один раз прочел все подряд, вернулся к началу и перечитал пару мест. После этого уставился в никуда.
Немного погодя он тряхнул головой, словно отгоняя сон, встал, сунул письмо обратно в карман и отпер дверь. Перед уходом зачем-то спустил воду, после чего вымыл руки.
На лице Филдинга, который как раз убирал мобильник, отразилось облегчение, а потом некоторая досада; видно, он беспокоился, не улизнул ли от него двоюродный братец. Но, по крайней мере, на стойке возвышалась еще одна пинта IPA.
— Так вот, у меня для тебя несколько новостей, — объявляет Филдинг, как только Ол принимается за новую кружку. — Во-первых, Бабуля подумывает — то есть уже решила, дело завертелось — продать Гарбадейл.
— Что-что?
— Да, это так. Сам посуди. Ей скоро восемьдесят, и за последний год у нас было много оснований опасаться за ее здоровье; кое-кто стал ее убеждать временно перебраться в такой район, где будет приличная больница. А так ближайшая-то… мм… в Инвернессе, а до нее часа два пилить.
— Ближайшая — в Рейгморе.
— Вот-вот, точно. В любом случае путь не близкий, и это только в одну сторону, а кто ее повезет? «Скорая» будет тащиться туда-обратно вдвое дольше. Есть, конечно, вертолет, но мало ли что. Когда у нее в очередной раз случился сердечный приступ…
— Сердечный приступ? — В голосе Ола прорезалось удивление.
— Мерцательная аритмия или что-то вроде того. Даже обморок был. Она в марте слегла, так что ты, наверное, не в курсе.
— Ни сном ни духом. Это серьезно?
— Видимо, да. Короче, это, похоже, убедило ее переехать наконец из своего захолустья. Пока она рассматривает только Инвернесс, ну, может быть, Глазго или Эдинбург, но, думаю, мы сможем ей внушить, что в Лондоне, поближе к Харли-стрит, будет надежнее.
— Но ведь ей врачи, видимо, не отвели каких-нибудь два месяца?
— Боже упаси, конечно нет. До этого не дошло. Она до ста лет проживет, если будет себя беречь или доверит это нам.
— Ты этим не особенно убит? — спрашивает Ол, лукаво поглядывая на брата.
— Ол, прекрати. — Филдинг делает маленький глоток минералки. — Это еще не все. Дело в том… Ох, чуть не забыл! В следующем месяце ты приглашен на бабушкин юбилей.
Он роется в другом кармане пиджака, вынимает именное приглашение и передает Олу. Тот смотрит на конверт с таким ужасом, словно внутри бомба или по меньшей мере бацилла сибирской язвы. Не распечатывая, он опускает приглашение в карман своей потрепанной дорожной куртки.
— На этой неделе поместье выставят на продажу, — продолжает Филдинг, — хотя до и после торжеств его на пару дней закроют для покупателей. Нам предоставляется последняя возможность побывать в этих местах. В смысле погостить.
— Не, я пас. — Ол делает глоток. — Но все равно спасибо. Если руки не дойдут ответить на письмо, передай мои извинения.
— Это не все.
— Как, еще что-то?
— Осталось самое главное. Стал бы я колесить по всей Британии только ради того, чтобы вручить тебе приглашение. Дело в том, что это не просто семейное торжество. В смысле торжество тоже будет, но в эти же дни произойдет и кое-что другое. Об этом мне и надо с тобой переговорить.
— Разговор-то долгий? Мне снова бежать в сортир?
— Сделай одолжение, потерпи.
— Шучу-шучу.
— Это касается корпорации «Спрейнт».
— Неужели? Вот радость-то!
— В общем, они хотят нас купить.
На полпути к губам кружка Ола на мгновение замирает. Наконец-то — хоть какая-то реакция. Человек удивлен. Даже поражен, не побоялся бы сказать Филдинг.
— Доперли, значит, — говорит Олбан и делает глоток, изображая непринужденность.
Вот теперь лед тронулся.
— На сто процентов, — поддакивает Филдинг. — Покупают с потрохами. Пару человек, видимо, оставят в качестве консультантов. Есть такая вероятность. В обмен на акции и наличные. В основном на акции. Название, конечно, сохранят. Оно денег стоит.
Ол некоторое время молча кивает, скрестив руки на груди. Пристально разглядывает свою обувь — тяжелые желтые ботинки с разномастными шнурками. Потом переводит взгляд на Филдинга и пожимает плечами:
— У тебя все?
— Теперь о праздновании. Накануне юбилея семья, фирма, устраивает в Гарбадейл-хаусе чрезвычайное общее собрание. — Еще один глоточек минералки. — Съедутся почти все.
— Хм… — кивает Ол, продолжая изучать ботинки. Таращит глаза.
— Думаю, ты тоже появишься, хотя бы ради этого, — говорит Филдинг. — Собрание — в субботу. Восьмого октября. Бабушкин юбилей — на следующий день.
— Понятно.
— Как я уже сказал, наши собираются почти в полном составе. Съезжаются со всего света. — Филдинг делает паузу. — Жаль, если тебя не будет, Ол. Честное слово.
Олбан кивает, оценивает взглядом пиво, залпом осушает пинту и встает, натягивая куртку.
— Продолжим наш поход?
— Давай.
Они идут по набережной до того места, где движение оканчивается и через реку перекинут железнодорожный мост. К нему сбоку притулился пешеходный мостик, по которому они и поднимаются.
— Итак, каково твое мнение? — спрашивает Олбана Филдинг.
— По поводу юбилея? Или военного совета? Или поглощения? Или грядущей встречи нашего большого и дружного клана?
— Вообще.
Некоторое время Ол целеустремленно шагает вперед, затем замедляет шаг и останавливается у середины пешеходного моста. Он поворачивается к перилам и смотрит вниз на воду, тихо протекающую под мостом. Ее поверхность, прозрачно-коричневая, как дымчатое стекло, нервно поблескивает в лучах солнца. Филдинг тоже облокачивается на перила.
Олбан медленно качает головой, а легкий бриз развевает его светло-русые космы.
— Я не впишусь. Уж извини.
Филдинг хочет что-то сказать, и в иных обстоятельствах он за словом в карман не лезет, но иногда просто необходимо давать людям возможность заполнять их собственные паузы.
Ол несколько раз глубоко вздыхает и смотрит вверх по течению, туда, где река пропадает из виду.
— Когда-то я почувствовал, что закован… связан по рукам и ногам этой семьей. У меня созрела дурацкая мысль: а что, если свалить куда подальше на один год и один день? Чтобы освободиться или хотя бы примириться… к обоюдной радости. — Он бросает быстрый взгляд на двоюродного брата. — Следишь за мыслью? Как при рабовладельческом строе. Если рабу удавалось сбежать от хозяина и не быть пойманным один год и один день, он становился свободным человеком.
— Да, что-то такое слышал.
Ол усмехается.
— Все равно, идея небогатая. Сначала — желанный год передышки. Потом вернуться, сесть в свое законное кресло, а в один прекрасный день почувствовать, что тебя от этого уже рвет. Думал я, думал — и решил слинять, потому что одного года и одного дня будет мало, и прежде было мало. В рассуждении нашей семейки, этого недостаточно.
Он оборачивается с едва заметной улыбкой. Но это дело известное: если пауза у собеседника затягивается — хочешь не хочешь, а заполняй ее сам.
— Как по-твоему, — спрашивает его Филдинг, — когда же надо возвращаться, чтобы было достаточно?
Ол пожимает плечами:
— Полагаю, где-то между «своевременно» и «никогда».
Помолчав, Филдинг говорит:
— Слушай, помнится, ты взбрыкнул из-за того, что мы продали четверть пакета акций «Спрейнту».
Никакой реакции.
— Конечно, из этого сделали целую историю, — продолжает Филдинг. — Семейное предание о том, как ты не согласился с продажей двадцати пяти процентов и бежал с корабля. В девяносто девятом. Скажи, это правда?

![Адель Кутуй - Неотосланные письма [Повесть и рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/111709/111709.jpg)