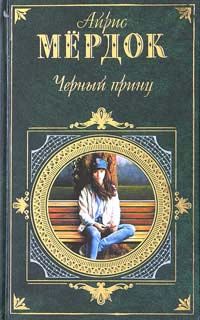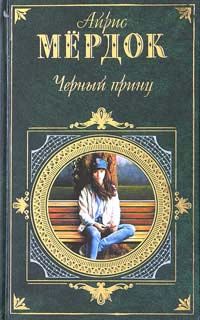— Лучше постою, если ты не против. Я больше люблю стоять. А в целом как дела, Изабель? Как Отто, не считая того, что пьет?
— Наверное, неплохо. С работой справляется. Я его больше не вижу. Он спит в мастерской.
— Смотрю, он взял нового ученика. Кажется, ты упоминала о нем в письмах. А со старым что стряслось?
— А, смылся как-то раз рано утром со всеми наличными, какие нашел, и грудой одежды Отто. Конечно, Отто ничего не предпринял. Слава богу, Лидия тогда уже была почти без сознания.
— А новый каков? Такой же, как старые? Да уж, Отто умеет их выбирать! Похоже, парень иностранец.
— Кажется, у него родители иностранцы. Русские евреи. Он живет в беседке. Его я тоже почти не вижу.
Беседка была круглым каменным строением, изначально — декоративным сооружением восемнадцатого века, позднее при помощи красного кирпича превращенным вандалами в домик садовника. И все же она довольно мило смотрелась среди первых камелий. Мастерская Отто, бесстыдное уродство из кирпича и шифера, к счастью, пряталась за домом.
— Откуда он явился?
— Неизвестно. В тот день, когда у Лидии случился последний удар. У него есть сестра или кто там она для него. Пока он не сделал ничего возмутительного.
Она тихо засмеялась. Изабель обладала музыкальным смехом, который сыпался из маленького ротика, как грушевые леденцы. Она встала с кресла и, семеня, пробралась между мебелью к окнам.
— Ты тревожишь меня. Лучше сядь.
— Извини, Изабель. Боюсь сломать стул, как в прошлый раз. Изабель, ты не могла бы выключить проигрыватель? Ненавижу фоновую музыку.
Она наклонилась к проигрывателю, чтобы выполнить мою просьбу.
— Мне так нужна музыка. Не знаю, что бы я без нее делала. Иногда я заворачиваюсь в нее, словно в дикарский плащ. Ах, Эдмунд, я была так одинока…
Меня немного встревожила умоляющая нотка в ее голосе. Я не хотел никаких проявлений чувств с ее стороны. Мне не нужны были ее признания и жалобы. Они и так были мне слишком хорошо известны. Я живо начал:
— Ладно, ладно тебе, ведь есть же… — Я собирался сказать «Флора», но внезапно почувствовал, что это может причинить ей боль, и произнес: — Итальянка.
— Мы с Мэгги — как герои Достоевского, которые слишком долго вместе голодали в лачуге. Мы ничего не можем сделать друг для друга. Как бы то ни было, Лидия отняла у меня Мэгги, как отняла Флору. Она все забирала себе.
— Да уж, воображаю, как легко она проглотила бедняжку Мэгги.
— Еще много Мэгги осталось.
— Еще много тебя осталось. Странно, что ты больше не выходишь, ничего не делаешь в городе.
— Так, как Мэгги? Она настоящая благодетельница. Знает всех местных итальянцев. Но вот мне что-то не хочется быть няней.
— Наверняка тебе стало бы легче, если бы ты попыталась думать о других больше, чем о себе, думать о чужих бедах…
— По-твоему, я веду дурацкую эгоцентричную жизнь?
Я помедлил. В ее вопросе слышался пыл. Мне совершенно не хотелось вести подобный разговор с невесткой. Любой мой намек на укор — и атмосфера между нами станет теплее, чего я инстинктивно избегал. В конце концов, я только прохожий. И все же мне пришлось ответить искренне:
— По правде говоря, да.
Моя откровенность обрадовала Изабель, она слегка порозовела от удовольствия.
— Ты совершенно прав. Моя жизнь — это divertissement.[10]
Она прошла от окна к каминной полке и принялась бросать сухие шершавые кусочки дерева в огонь. Я отступил назад, осторожно передвигая ноги по заставленному полу.
— А ты… — произнесла Изабель. — Да, ты ведешь простую добрую жизнь. Ты помогаешь людям. О, я знаю, знаю. Неужели ты думаешь, быть такой, как я, легко?
— Я тоже эгоистичен, — возразил я. — Но меня это устраивает. У меня вкусы не от мира сего. И конечно, передо мной был пример — отец.
Разговор нравился мне все меньше.
— Если бы твой отец не встретил Лидию! Ему надо было стать монахом. Но в каком-то смысле ты проживаешь его жизнь за него.
— Никто не мог бы прожить жизнь за него. Он жил своей жизнью. Он был намного, намного лучше, чем я когда-либо смогу стать.
«К тому же, — добавил я про себя, — я тоже встретил Лидию, и в куда более раннем возрасте».
Я украдкой поглядел на часы. Интересно, успел ли мой брат протрезветь?
— Да, но ты свободен, — возразила Изабель, — А мы здесь все пленники. Мы точно люди на гравюре. Боже, как я ненавижу гравюры! Извини, Эдмунд, но есть что-то такое в этих черных оттисках — варварское искусство, северное искусство. И почему граверы всегда выбирают такие мрачные сюжеты? Повешенные, плакальщицы… В гравюрах нет места радости. Нет цвета. Боже, как я ненавижу север!
Она раздраженно постучала обручальным кольцом по каминной доске.
Я знал, что несвободен, но определенно не собирался обсуждать это с Изабель.
— Было множество граверов-итальянцев. Дюрер — это еще не все. Мантенья,[11] например…
— Отто — варвар, ты же знаешь, — возразила Изабель, — Он северянин. Он первобытен, вульгарен. Отто из тех, кто напрудит в раковину, даже если рядом стоит унитаз.
Терпеть не могу слышать грубые выражения из женских уст, да и вообще считаю крайне неуместным обсуждать брата с его женой.
— Ладно тебе, Изабель, — произнес я нарочито приподнятым тоном, — ты все преувеличиваешь. Даже если ты и была в плену, сейчас ты намного свободнее. И сможешь быть свободна в любое время, стоит только захотеть. А сейчас, если ты не против…
— Не будь глупцом, Эдмунд, — сказала Изабель.
Она подлила себе в стакан еще виски, и я с отвращением понял, что она немного пьяна.
— Ты не хуже меня знаешь, что можно быть пленником в собственной голове. Вот они мы, губим себя и друг друга назло Лидии. Мы превратились в клоунов и паучих. Мы с Отто только и делаем, что губим друг друга. Кончина Лидии ничего не изменит.
Ее горячность одновременно тронула и обеспокоила меня. Как раз этого я и хотел избежать. Я испытывал сострадание, но при этом понимал, что, если буду искренне растроган положением Изабель, это не принесет ничего хорошего ни ей, ни мне.
— Попробуй встряхнуться, Изабель! Впусти радость в дом! Ты можешь вести счастливую, полезную, независимую жизнь…
— Помнишь, — перебила меня Изабель, — как святая Тереза описывает видение места, уготованного для нее в аду? Оно подобно темному шкафу. Что ж, я все время живу в таком темном шкафу. Все мое существо отделяет меня от той доброй жизни, о которой ты говоришь. Единственным моим утешением остался сон. Каждая ночь — подобие смерти. Иначе я давно бы убила себя.
Она снова яростно постучала обручальным кольцом, ее влажные губы разомкнулись, глаза сощурились от блеска раскаленного пламени. Она казалась взъерошенной, цветастый пеньюар распахнулся у шеи, она постоянно взмахивала рукой и потирала грудь и плечи.
Совершенно расстроенный, я повернулся к окну. И увидел, как Флора идет через лужайку, залитая ярким светом. Она была в белом летнем платье и небрежно помахивала большой шляпой от солнца, держа ее в руке за синюю ленту. Волосы ее оставались не убраны. Работа явно не для гравера. Скорее для Мане. Я воскликнул:
— О, да там Флора! Какая она красивая.
Я услышал шаги Изабель, и через мгновение ее рукав коснулся моего. Мы оба смотрели, как девочка шагает, запрокинув голову, словно ей нет дела ни до чего, кроме сверкающих деревьев и яркого голубого летнего воздуха.
— Алиса в Стране чудес! Уверен, она — твоя радость, Изабель.
— И да и нет. — И добавила себе под нос: — Жаль, у меня нет других детей.
Флора исчезла среди деревьев. Я вздохнул.
— Ты по-прежнему совсем одинок, Эдмунд?
— Да.
Я отодвинулся от нее. Моя сердитая боль прошла, и, жалея себя, я стал сильнее жалеть ее.
— Ты к нам надолго?
— Ну, — произнес я, снова глядя на часы, — если ты меня простишь и если я успею поймать Отто, то уеду на пятичасовом поезде.
— Что?!
Уже на полпути к двери я повернулся к ней. Ее пухлые ручки обхватили горло жестом ужаса и мольбы.
— Нет, нет, нет…
Повторяя это слово, она протянула ко мне руку, скорее властно, нежели просительно. Она казалась маленькой пророчицей в золотистом пылающем храме.
— Ты не можешь уехать, Эдмунд.
— Ну, вообще-то я…
— Ты должен остаться. Что-то удержит тебя здесь. Ты должен остаться и помочь нам. Ты нужен Отто. Ты всем нам нужен. С кем еще я могла бы так поговорить? Я так ждала твоего приезда. Ты единственный, кто может исцелить нас.
— Я не целитель, — возразил я.
И не посмел добавить: «Я не могу тебя исцелить. Подозреваю, что никто не может».
— Нет, целитель. Ты много кто. Ты хороший человек. Ты что-то вроде врача. Ты эксперт, судья, ревизор, избавитель. Ты во всем разберешься. Наведешь порядок. Освободишь нас.