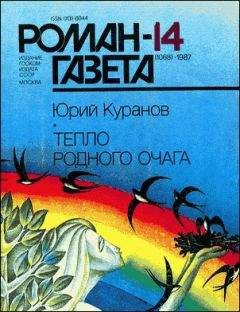— А все же что-то вам, Дмитрий Васильевич, мешает еще? — любопытствовал я.
— При нынешнем завклубом, — строго сказал старший Лукьянов, — я в клуб не только что на работу, но и ногой ступить не имею особого желания.
Это была старая и теперь уже почти вечная проблема: когда на какую-либо, пусть самую незамысловатую руководящую должность приходит неспециалист, человек случайный, начинаются погром и изгнание всех, кто любит и умеет работать, особенно людей с явной профессиональной хваткой, людей, болеющих за дело и потому принципиальных.
— А что случилось? — удивился я.
— Она не дает работать.
— Как?
— Очень просто. У нее нет слуха. Поэтому все, что вы делаете, ей кажется неправильным. Она лезет всюду и всем мешает. У нее нет вкуса. Поэтому с ней ни о чем нельзя договориться. И она это знает, поэтому страшно обидчива, и любой обыкновенный спор она превращает в склоку, в крик. У нее нет нормальных доказательств и быть не может, она не специалист, поэтому она никому не дает говорить.
Дмитрий Васильевич горько усмехнулся и пожал плечами. Да, собственно, тут ничего нельзя было и поделать. Все это я знал о заведующей клубом, все это не было для меня новостью. Это она под любым предлогом отказывалась сажать вокруг теремкового срубистого клуба цветы, это она отказывалась заказывать скамейки, мотивируя отказ тем, что их все равно сломают, под тем же предлогом она несколько лет выступала против ремонта и постройки новой лестницы на гору к клубу; это она два года всячески тормозила роспись и оформление клуба профессиональными художниками, пока не вмешался первый секретарь Опочецкого райкома партии Александр Иванович Иванов. Это, наконец, она же угробила замечательное предложение художника Валентина Иванова, который все-таки взялся оформить клуб. Валентин Иванов предложил расписать стены клуба изнутри композициями из портретных групп работников совхоза и жителей села Глубокое. Она высмеяла и это предложение, сказала, что всех мы нарисовать не сможем, а если нарисуем одних, то другие обидятся и когда-нибудь в темноте, во время сеанса или когда гроза отключит подачу тока из Опочки, недовольные изрежут настенные росписи. И этот аргумент подействовал.
А между тем всего семь лет спустя я встретился с этим замыслом, уже в прекрасном исполнении, в столовой литовского совхоза имени XXV съезда КПСС поселка Юкнайчай Шилутского района. Правда, директор этого совхоза, Герой Социалистического Труда — человек огромной культуры, а парторг хозяйства, в прошлом сам председатель колхоза, хорошо играет на скрипке в местном эстрадном ансамбле.
А какой великолепный ансамбль мог бы укрепить самодеятельность не только глубоковского клуба, но и просто оживить быт села и совхоза, когда пример и дружной жизни, и трудовой самоотверженности, и родственной талантливости являла бы во всей своей привлекательности эта замечательная семья Лукьяновых! Ее, если хотите, и чисто пропагандистская значимость превысила бы десятки, а то и сотни мертворожденных кабинетных выдумок и бесталанных агитационных номеров.
Сравнительно недолго я просидел в присутствии этой спокойной и благожелательной женщины, в лице которой, таком обыкновенном сельском, так явственно светились чистота и добропорядочность. Чувствовалось, как в молодости была она красива и, видимо, не броской красотой, с которой хоть пляши, хоть песни пой, а красотой скромной и целомудренной. Глядя на эту немолодую женщину здесь, в небольшой совхозной проходной, под бушующим пластом дождливого ненастья, на берегу замирающего от бури озера, я вдруг вспомнил строки крошечного, но такого поразительного своею мудростью стихотворения Уолта Уитмена. Всего две строки. Написаны более ста лет назад, но они живут, как будто родились только вчера. И вечно жить будут.
Женщины сидят или ходят. Молодые и старые.
Молодые красивы, но старые — гораздо красивее.
И это правда. Чем дольше я живу, тем с большим изумлением смотрю я на красивые девичьи лица. Я ли это был влюбленным, и не раз и не два, в ранней молодости? Во что я влюблялся? При всей свежести, всей привлекательности молоденьких девичьих лиц, как они пустынны, на них ничего еще нет. Жизнь не высветила их своим вещим огнем испытаний, бедствий, радостей, сострадания, мудрости и терпения. Поистине лица многих наших жен и матерей с годами превращаются в монументы человеческого величия и чистоты, и чем старее такое лицо, тем оно прекрасней.
Надо сказать, что годы вообще как бы навсегда и безвозвратно проявляют в человеческих лицах все, что в них главное. Вот почему мы порою встречаем ужасных, омерзительных стариков и страшных, звероподобных старух. Всю жизнь, цепляясь за низменные и ничтожные привязанности своей натуры, они как бы вычеркивают из себя все, что роднит их с человеком, с высоким призванием человеческой жизни. И остается только смрад. Но люди, проведшие свои дни в чистоте, наливаются, и наливаются красотою не обязательно подвигов, но порою никем не замечаемых стоических будней, которые иногда намного выше любого подвига. Жизнь убирает с человеческих лиц все половинчатое, все сиюминутное, все не проявившее себя, и к последнему завершению дней на лицах наших проступает и остается лишь самое главное. Особенно отзывчивы на такое течение времени лица женщин как наиболее восприимчивые на каждое, самое неуловимое и тонкое видоизменение человеческого чувства. Сердце матери!
Женщины
Сидят или ходят.
Молодые
и старые.
Молодые красивы,
но старые —
гораздо красивее.
Так хотелось бы мне записать и читать это короткое стихотворение! Читать любому человеку, молодому и старому, красивому и некрасивому, но обязательно отзывчивому сердцем и доброму.
Я переговорил по телефону — и все. Мы даже ни о чем толком не побеседовали. Я поблагодарил ночного сторожа в платке и в плаще с капюшоном, в увесистых кирзовых сапогах и вышел на улицу. А на улице меня не оставляло ощущение, будто я целую вечность стоял, склонившись над небольшим, лишь с сомкнутые ладони величиной родничком, который скромными и крошечными струйками выбивался сквозь искристый, зернистый, мелкий песок. И разговаривал родник не только со мной, но и с вечностью. Такое ощущение теплилось во мне под низкими стремительными черными тучами на берегу ревущего не то от страха, не то от величия озера, под бешеным раскачиванием ночных фонарей не так уж мало лет назад.
Но вскоре мне пришлось познакомиться с этой женщиной ближе.
Дело в том, что у меня тогда заболели зубы. Как всякий не очень смелый человек, все, что касается лечения зубов, я откладывал и откладывал до тех пор, пока и к врачу-то стало обращаться поздно. А тут и обратиться было не к кому, ехать же в Опочку далековато, да и очередь высиживать там в поликлинике, в которую съезжаются страдальцы со всего района, не так-то было радостно. Однако делать нечего, и я побрел к Дмитрию Васильевичу в надежде, что, может, он прихватит меня с собою, когда по делам направится в район.
Но машина оказалась неисправной, она была в ремонте.
— Юрий Николаевич, а вы сходили бы на источник, целебный тут у нас есть. Пока пару-тройку дней я ремонтируюсь, вы бы там водички набрали, — посоветовал Дмитрий Васильевич.
— А что там за источник такой?
— Я не знаю, его не исследовали никакие ученые, но наши люди, да и из других местностей за этой водой уже веками ходят. Она вроде бы от всех болезней помогает. Гипноз это, может быть, но от нарывов и от желудочных расстройств действительно эта вода сильна.
— Что же, серебро в ней, что ли? — удивился я.
— Все может быть, — согласился Дмитрий Васильевич. — Вон источник за Себежем, та вода годами стоит и не тухнет.
— А как туда пройти? Это далеко?
— Да нет, километров десять. За Шелковом, в лесной такой лощине. А сводить вас туда может Евгения Михайловна.
— Кто это?
— Это мама наша, — пояснил Дмитрий Васильевич и улыбнулся. — Она вас знает. Вы как-то целый вечер от нее из проходной в Опочку звонили.
— Так это ваша мама?
— Ну конечно. Она уже давненько сторожем здесь работает. Она вас и проводит.
— А может, ей некогда?
— Да ну что вы! — махнул рукой Дмитрий Васильевич. — Она любит туда ходить. Да и у девочки нашей что-то вроде золотушки. А от золотушки-то, мама говорит, вода эта очень способная.
Шелково — это высоко на увалах, под самые здешние озерные небеса вознесенная деревня. Дворов в ней не так уж и много: три или четыре. Деревня держится так возвышенно, так душевно беседует с перелетными птицами, такие сосняки да ельники по-за ней начинаются, гористые, тесные и просторные одновременно. Так и несет из них буреломом, тишиной, таинственностью. А грибов там, за Шелковом, хоть косой коси!