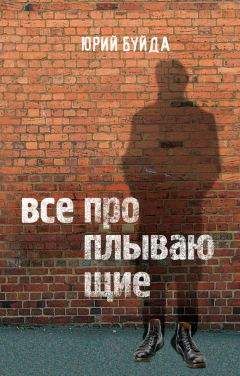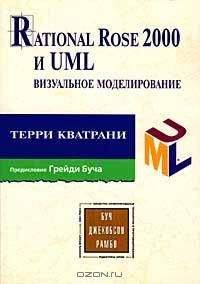Однажды мы столкнулись здесь с молодым мужчиной, который оказался внуком хиловского священника, приехавшим взглянуть на дедову родину. Он окончил семинарию и получил приход недалеко от Перми. Теперь мужчина пытался отыскать могилы предков, которые были похоронены в церковной ограде, но безуспешно. Ида поговорила с ним, священник перекрестил нас на прощание, но так и не дождался, чтобы Ида перекрестилась. Она редко бывала в церкви, и я так и не понял, верит ли она в Бога. А когда я спросил ее об этом прямо, она ответила с усмешкой: «У Бога со мной сложные отношения».
С годами лес все дальше отступал от озера, а среди деревьев все чаще попадались стихийные мусорные свалки. Сначала люди стали выбрасывать железные кровати, патефоны и абажуры, потом — швейные машинки с ножным приводом, ламповые телевизоры и керогазы, наконец дошла очередь до отслуживших холодильников, мопедов и грампластинок. Ну и, конечно, покрышки, рваная обувь, битые молью старушечьи плюшевые пальто, километры магнитофонных пленок, чугуны, велосипеды, дырявые кастрюли и подойники, детские коляски, конская сбруя, рваные гармошки и даже красные знамена, которыми награждали победителей социалистического соревнования…
Ну а в последние годы, когда люди бросились строить, перестраивать и ремонтировать дома, мусор в лес стали вывозить грузовиками. И теперь нам с Идой приходилось лавировать среди гор битого кирпича и кафеля, унитазов и ванн, ржавых водопроводных труб и покореженных газовых плит.
Однажды, когда мы в очередной раз добрались до Хилой церкви, нам попросту не удалось найти места, где можно было бы присесть, перевести дух, выпить чаю: огромная лесная поляна была превращена в сплошную свалку — от края до края.
— Ну что ж, — сказала Ида, — значит, так тому и быть.
Она произнесла эти слова спокойным голосом, но сердце у меня сжалось.
Ида стояла среди гор мусора в своем черном пальто до пят и казалась никому не нужной, одинокой, бессмысленной деталью безжизненного пейзажа…
Больше мы никогда туда не ходили.
В Чудове никто, даже старики, не помнил об этой сельской церквушке, о ссыльном священнике и могилах его предков, словно и не было ничего этого — ни храма, ни людей, ни жизни, ни смерти. Помню, я заговорил о русском беспамятстве, но Ида меня остановила:
— Это не беспамятство, Алеша, это боль. А боль молчалива. Только так, наверное, и удается выжить.
Я был не согласен, но спорить не стал.
И вот сейчас я стоял на Кошкином мосту один, думая об Иде Змойро. Ее образ был рассыпан в моей жизни, как кусочки смальты, и так получалось, что только мне было под силу собрать мозаику из этих кусочков, из этих обрывков и обломков. Я думал о Чудове, который не сегодня завтра станет частью Москвы, растворится в ней, исчезнет, и вдруг понял, что должен рассказать об этом. Обо всем этом. Об этом городе и этих людях. О братьях-палачах, основателях Чудова, и о Спящей красавице, о пароходе «Хайдарабад», Ханне и капитане Холупьеве, об Александре Змойро, командире Первого красногвардейского батальона имени Иисуса Христа Назореянина, и его жене Лошадке, о черном пятне судьбы и Кошкином мосте, о Коле Вдовушкине и подкованных огнем конях, о Бабе Шубе, о волшебной Индии, о дьявольской тяге к саморазрушению и божественной страсти к полету, наконец, о боге — и о боге тоже, о боге лиловом и золотом…
5.Африка — это обшарпанные фальшивые колонны по фасаду, облупившаяся штукатурка, заколоченные окна первого этажа, просевшая крыша, залатанная где жестью, где железом, а где досками вкривь и вкось. Над входом угадывались остатки герба, принадлежавшего какому-то Африкану Петровскому, одному из прежних владельцев дома: вверху в круге три звезды, а под ними — рука в стальной перчатке, сжимающая кривую татарскую саблю. Вокруг здания — кусты бузины, сирени, сгнившие поленницы, осыпи мусора, кучи битого кирпича и ржавого железа. Внутри пахло мышами и нафталином, всюду из щелей торчали клочья пакли, а из дыр в полу тянуло холодом и сыростью. Люди отсюда давно повыезжали — осталась одна Ида, занимавшая наверху квартиру в три комнаты с кухней.
За четыреста с лишним лет этот дом сменил множество хозяев, которые перестраивали его под свои нужды. В здании переносили стены, лестницы и коридоры, пробивали новые окна, залы превращали в каморки, а закутки объединяли в залы, и однажды так увлеклись, что замуровали в каком-то простенке напольные часы в вишневом корпусе. Спохватились, когда в три часа пополуночи эти часы начали отбивать время. Сломали одну стену, другую, сунулись туда, слазили сюда, но часов так и не нашли и махнули рукой: иссякнет же когда-нибудь завод — часы остановятся сами собой. Но завод не иссякал — часы продолжали каждую ночь отбивать три. Днем они молчали, а ночью, ровно в три часа, где-то в глубине дома раздавался тихий стон, а потом — три полновесных звучных удара, которые были слышны далеко вокруг. И так — ночь за ночью, год за годом. Бой был громким, отчетливым, но сколько ни искали, сколько ни ломали стены, часы отыскать так и не смогли, словно это был не механизм в вишневом ящике, а неотпущенная грешная душа, обреченная маяться в этих африканских лабиринтах до Страшного Суда.
В детстве Ида считала, что часы эти бьют по ночам неспроста. Это был зов, не иначе. Зов будущего, голос самой судьбы. Остальным слышался надоедливый, но привычный бой часов, а ей — глас Божий. Но ведь она была не такой, как все. Она была избранницей. К семи годам она прочла «Муму», «Гамлета» и взялась за «Материализм и эмпириокритицизм».
Чуть не каждую ночь, когда часы в Африке били три, она вылезала из-под одеяла и спускалась во двор. Приподнималась на цыпочки и зажмуривалась, чтоб лучше слышать. Проходила минута, другая, но ничего, кроме однообразного шума деревьев да плеска воды, расслышать ей не удавалось. Бесполая ночь пахла соснами, свиньями и смородиной. Девочка возвращалась в постель немножко расстроенная, но не разочарованная. Ну ничего, говорила она себе, значит, еще не время, значит, все впереди, и ей еще откроется смысл этих звуков.
А вот мой отец никакого смысла в этих звуках не улавливал. Бой часов его раздражал. Он несколько раз порывался отыскать и сокрушить этот чертов механизм, который мешал спать, но без помощи соседей это было сделать невозможно, а с соседями отец не ладил. Он вообще плохо сходился с людьми — был вспыльчив, раздражителен, резок. Иногда же на него накатывали приступы черной меланхолии — и тогда он мог молчать неделями.
Однажды мать сказала, что и в лагерь он попал не из-за политики, а из-за характера: в самом конце войны, будучи начальником штаба полка, вступил в конфликт с начальством, наговорил лишнего и загремел по пятьдесят восьмой десятой на Колыму. Впрочем, мои родители были из тех русских людей, которые считали позором даже незаслуженное наказание, а потому в нашей семье и не было принято говорить о прошлом отца.
Когда мои родители поселились в Африке, здесь кипела жизнь: стучали швейные машинки, пахло жареной рыбой и керосином, соседки плевали друг дружке в суп, варившийся на общих кухнях, соседи играли во дворе в домино, пили водку и отмечали дракой что свадьбы, что похороны. И все держали кур, уток, гусей, свиней, коров — Африка была окружена кривыми пахучими сараями и сарайчиками, из которых неслось хрюканье, мычанье и кудахтанье.
Отец ненавидел эту жизнь, этот «поросячий мезозой», как он говорил, и не скрывал презрения к соседям. Он выделялся ростом, начитанностью, манерами среди маленьких кургузых мужчин, сморкавшихся в кулак, и чувствовал себя львом среди мышей. Он работал заместителем директора леспромхоза, но мечтал о другой жизни. Мечтал — и ничего не делал для того, чтобы осуществить мечту. Он напоминал могучий паровоз, который вскоре после войны привезли в Чудов и установили на пустыре. Это была огромная звероподобная машина, воплощение силы и порыва, способная мчать по рельсам тысячетонные составы, а вместо этого ей приходилось обеспечивать теплом больницу, школу, детдом и жалкий молочный заводик — несколько подслеповатых сарайчиков, стоявших на берегу озера и вонявших вечной кислятиной.
Я остался без отца, когда мне не исполнилось и семи.
Это было летним вечером, мы с африканскими мальчишками играли в прятки, и я залез в подвал. Забился за старую бочку и замер. Через минуту услышал чьи-то шаги и выглянул. Это был отец.
Из груды досок, сваленных в самой дальней комнате, он вытащил небольшое березовое бревно — метра полтора длиной и сантиметров тридцать диаметром. Он уложил его на козлы и начал избивать, крича при каждом ударе так, словно это не он, а его били плеткой, сплетенной из стальной проволоки.
Да, все было именно так.
Он спустился в подвал, включил свет, уложил березовое бревно на козлы, снял рубашку, вооружился кнутом, сплетенным из тонкой стальной проволоки, обошел комнатку по кругу, примериваясь, и нанес первый удар. После первого удара на бревне лопнула кора, но это был удар вполсилы, для разминки. Второй и третий были посильнее, а после шестого или седьмого в месте удара кора уже стала отлетать от ствола клочьями, и следующий удар пришелся по влажному белому березовому телу. Бревно содрогалось, и вот тогда, почувствовав наконец сопротивление дерева, отец принялся за дело по-настоящему. Глаза его сузились, рот чуть-чуть приоткрылся, лоб, шея и плечи увлажнились потом. Он откидывался назад и вбок, занося кнут для удара, и со всей силой обрушивался на березу, и с каждым разом его удар становился все сильнее, все яростнее, все безжалостнее, а дыхание — все жарче, и вскоре он уже выдыхал с громким хрипом, вскрикивал, выхаркивая слюну, не замечая крови, пятнавшей его руки и майку, и мелких крошек и щепок, летевших в его искаженное лицо, а скрученный из стальной проволоки кнут свистел, извивался и бил, крошил, добивал дрожащее, истерзанное, окровавленное дерево, и страшная тень металась по комнате с белеными стенами, содрогаясь, вопя и корчась, пока, наконец, с последним ударом, переломившим бревно, обессиленный мужчина не упал на колени и замер, прерывисто дыша, всхлипывая и мотая головой, а кровь из носа и из разверстого его рта текла по подбородку и стекала слизистыми струйками на пол, в его черную тень…