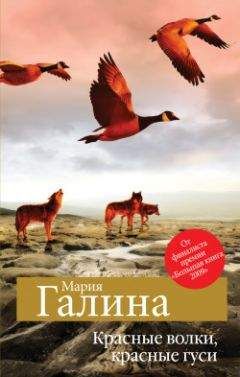– Ну? – она нетерпеливо пританцовывала на ходу. Рука у нее была горячая и влажная.
– Лиля! – раздалось из темноты. – Лилька!
Они со смехом вынырнули из боковой аллеи, несколько парней, девушки, светлые платья и рубахи светились в темноте.
– Ой! – обрадовалась она. – Это Жорик. Вот здорово! А вы куда?
– На Морвокзал, – сказал солидный Жорик. – Там у них бармен новый. Идешь? И этот с тобой?
– Это… как тебя зовут? – обернулась она ко мне.
Она уже забыла.
– Альберт, – сказал я.
– А это Алик. Точно. Пошли с нами, Алик?
– Нет, – сказал я сухо, – извините, нет.
– Ему домой надо. В кроватку. Да, Алик?
Я молчал.
– Да ты не грусти. Увидимся.
Она легко чмокнула меня в щеку, обдав запахом сладких духов. Я смотрел, как они, смеясь, уходят в темноту, по перечеркивающим дорожку полосатым теням… Я ненавидел себя. Пять, – думал я. – Пять километров. Без всяких скидок. Вот тебе, вот тебе, вот тебе…
* * *
Он пришел в четверг, под конец дня. Наверное, заехал с работы, под мышкой у него был портфель без ручки. Еще у него были носки в полосочку и дырчатые сандалеты. Брюки чуть коротковаты, словно он из них вырос.
Он торопливо поздоровался. Не потому, что был невежливым, просто спешил: через полчаса мы закрывались, и уборщица тетя Зина уже начала возить шваброй по линолеуму. И попросил… «Страдания юного Вертера».
Может быть, думал, что связник ему что-то там оставил?
Но когда я вынес синий томик, не столько затрепанный, сколько полинявший от времени, он разочарованно сказал:
– А другого издания у вас нету?
– С картинками, что ли? – не удержался я.
– Нет, просто другого… год, издательство…
– У нас и этого-то никто не берет, – сказал я честно. – Зачем нам два Вертера?
– Ну да, у вас, наверное, все больше фантастику просят.
Мы подписались на такую красно-белую серию, где печатали наших и не наших фантастов, и два тома – Саймака и Стругацких – у нас уже заиграли.
– Да, – сказал я. – Классику сейчас вообще мало кто берет. Только ученики и учителя.
Обычно я не слишком-то стремлюсь разговаривать с посетителями, но тут мне стало интересно. Зачем это он им понадобился? И что они такое делают в своем КБ, что он брюки себе новые не может купить, а продает шпионам государственные тайны?
– Вот вы вообще что кончали? – спросил он строго. – Библиотечный техникум?
– Три курса истфака, – сказал я.
– Ну, тогда вы должны понимать. Будущее – это то, чего нет. Вообще нет. Понимаете? Какое придумаете, такое и будет. Их тысячи, миллионы, этих будущих. А прошлое – одно-единственное. Оно требует к себе уважения.
– Поэтому вы и предпочитаете классику?
– Да. Возможно.
– Книги врут, – сказал я неожиданно для себя. – Даже хроники. Летописи. Написал что-то один-единственный человек, а мы ему верим. А может, он это по заданию партии и правительства писал?
– Или сам добросовестно заблуждался, да? – улыбнулся он. Зубы у него были слишком белые и ровные – наверняка искусственные.
Мне нужна хотя бы пара недель. А там пусть делают, что хотят.
– Вы правы, – сказал он задумчиво. – Это действительно нельзя проверить. Но ведь не в этом дело! Для нескольких поколений то, что написал хронист, и есть самая настоящая правда. Возьмем, например, «Слово о полку Игореве»…
– Подделка, – решительно сказал я. – Это кто-то из мусин-пушкинского круга, скорее всего, с благоволения и ведома самой Екатерины. Текстовый анализ доказывает…
– А его в школе учат, – печально проговорил он.
– Ну, вреда от этого нет. Кто-то прочтет и начнет интересоваться историей. К тому же его на цитаты растащили. Мыслью растекашеся и все такое… Я думаю, тут дело в созвучии – растекашеся – каша… То есть размазывать кашу по столу… А «мысль» на самом деле – мысь, белка. То есть белкой скача по дереву, сизым орлом под облаком… зооморфный ряд метафор.
– То есть, – уточнил он, – «Слово» вошло в культурный контекст примерно как «Горе от ума»?
– Ну да…
– Так какая разница, кто его написал? И зачем? Несколько поколений знают, что Игорь собрал дружину и сказал ей «луце ж потяту быти, неже полонену быти», а в это время потемнело солнце… Даже пытаются вычислить, когда это конкретно случилось – привязать к какому-то определенному полному солнечному затмению. Слушают оперу «Князь Игорь», сочиняют стихи про Ярославну, как она плачет на городской стене…
– Даже песня такая есть – «Как зовут тебя? Ярославна! Ярославна моя, постой!». Хотя это на самом деле не имя, а отчество, – вставил я.
– Ну, да… Звали ее, кажется, Евдокия, но про это поэты не пишут. Слишком неромантичное имя. Оно встроено в другой культурный контекст. Дуня, Дуся – по созвучию с «дурой». Простолюдинка. Пустите Дуньку в Европу, и все такое…
Тетя Зина начала с намеком шаркать у него под ногами шваброй, и он спохватился. Я тоже спохватился – свет на корешках из розового стал красным.
– А нельзя посидеть в читальном зале? – спросил он.
– Сегодня уже не выйдет. Тетя Зина очень сердится, если я задерживаюсь. Тогда и ей приходится задерживаться, а у нее внуки.
– Завтра? – задумчиво спросил он. – Я могу разве что с утра…
– Мы открываемся в десять.
– Да, но мне на работу… Вы не могли бы… в порядке одолжения… на полчасика раньше…
Значит, тренировку придется сократить.
Тетя Зина у нас подобно капитану – покидает корабль последней. Иначе я бы все время психовал: закрыл ли окно? выключил ли свет? повернул ли ключ в замке?
Две сросшиеся акации отбрасывали совокупную длинную тень. За углом звенел трамвай. Кто-то в кронах старательно выводил «буутыылку… буутылкуу!».
– Ну ладно, – сказал он, – до завтра.
Он уже повернулся со своим портфельчиком, когда я окликнул его:
– Постойте! Кто это так кричит? Сова?
– Что вы! – удивился он. – Это горлица. Кольчатая горлица.
И вдруг шепотом добавил:
– Вы знаете, мне кажется, что я сумасшедший!
Я ошеломленно застыл, но он уже повернулся и, смешно подпрыгивая, побежал к остановке…
* * *
Я говорил себе, что вовсе не хочу ее видеть. Совсем наоборот, я вышел, чтобы прогуляться перед сном, успокоиться… Но ноги сами вынесли меня под малиновую вывеску. Сейчас на дверях висела табличка «Закрыто на учет». Ниже синим восковым карандашом приписано: «Фимочка, заходи».
Жестяными голосами орали цикады.
Я их ненавидел.
Чем все кончилось, думал я, темной захламленной квартирой около базара? Ковриком с оленями? Кислым клоповьим запахом? Пыльными формулярами, клеенными корешками никому не нужных книг? Я же был уверен, всегда уверен, что мне уготована иная, яркая, замечательная жизнь! Это у них, у них у всех будет все как обычно, потому что они сами этого хотят. Потому что они этого заслуживают. Тогда как у меня…
Ничего, утешал я себя, стиснув зубы, это ненадолго. Теперь ненадолго.
И тогда я увидел ее – белая блузка светилась в темноте, вывеска отбрасывала на белые руки, на лицо рубиновые пятна света.
Она шла под руку с каким-то моряком и смеялась.
Я отступил в тень, потом несколько раз глубоко вздохнул и вышел им навстречу.
Они шли, не замечая меня. Просто попытались обогнуть, как огибают неодушевленный предмет вроде тумбы с афишами.
В горле у меня пересохло.
– Лиля, – выдавил я.
– Чего тебе, мальчик? – равнодушно спросила она.
– Я подумал… мы можем…
– Отвали, пацан, – сказал моряк.
– Но я только…
Я отведу тебя к морю, хотел сказать я, я покажу тебе, какое оно, ты, наверное, и не подозреваешь, оно спит и дышит, и топит в себе звезды, а песок по утрам голубоватый, пустой и холодный, и на нем, знаешь, такие следы, отпечатки крыльев, перьев, крестообразных лап, я думаю, это вороны, они купаются в песке, как мы – в волнах… Я отведу тебя на берег и расскажу свою самую большую тайну.
Моряк легонько толкнул меня раскрытой ладонью. Он даже не размахнулся, просто толкнул, но я отлетел на несколько шагов. Дыхание у меня перехватило, на глазах выступили слезы – скорее от обиды.
– Оставь его, – заступилась Лиля, – это же просто мальчик. Ты же видишь…
– Я таких мальчиков… – сквозь зубы сказал моряк.
Ударить его в ответ? Или просто подойти, отодвинуть плечом, взять Лилю за руку и сказать: «Пойдем»? В общем, сделать то, за что женщина уважает мужчину. Но вместо этого я отвернулся и побрел вдоль трамвайной колеи, я думал, они будут смеяться мне вслед, но они даже этого не сделали, просто пошли дальше, и я слышал, как моряк что-то рассказывает, а Лиля ойкает, поощряя его…
Я шел, и рельсы расплывались в моих глазах.
* * *
Он пришел ровно в девять, когда я отпирал железную дверь библиотеки. От травы тянуло сыростью, и растрескавшаяся асфальтовая дорожка вся была пересечена блестящими слизистыми следами улиток. Он шел, глядя себе под ноги, чтобы не наступать на этих улиток. Потом увидел меня, остановился у подножия лестницы и поднял голову.