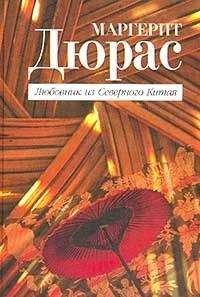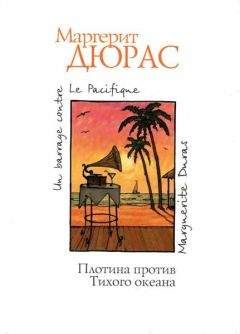Китаец сидит неподвижно, он не делает ни одного движения, ни единого. Может, он и правда спит.
Девочка поворачивается к окну, к рисовым полям. Воздух дрожит от жары.
Ей кажется, что руку она захватила с собой, в свой сон, и теперь она с ней.
Но на самом деле рука далеко от нее. Девочка больше на нее не смотрит.
Она засыпает.
Похоже, она действительно заснула. Но она-то знает, что нет, она уверена, что нет. Это так и остается непонятным.
Спал ли китаец? Этого она не знает и не узнает никогда. Когда она проснулась, он смотрел на нее. Он заметил, что она засыпает, но она почти тут же проснулась.
Они не говорят о руке. Делают вид, как будто вообще ничего не произошло.
— Ты в каком классе? — спрашивает он.
— Во втором.
— А сколько тебе лет?
Небольшая заминка.
— Шестнадцать.
— Ты слишком маленького роста для шестнадцати лет, — с сомнением говорит китаец.
— Я всегда была маленькая и буду такой всю жизнь.
Он пристально смотрит на нее. Она смотрит в другую сторону.
— Ты часто лжешь? — спрашивает он.
— Нет.
— Неужели? Как тебе удается не лгать?
— Я просто молчу.
Он смеется.
— Ложь, я ее очень боюсь, — признается она. — Почти также боюсь, как смерти, от них не убережешься. А вот вы, конечно, никогда не лжете, — добавляет она уверенно.
Он смотрит на нее. Задумывается. Наконец говорит с удивлением:
— Да, правда… Как ни странно…
— Вы об этом не знали?
— Нет… забыл, наверное, а, может, и правда, не знал.
Она смотрит на него. Верит ему.
— А как вам удается не лгать? — спрашивает она.
— Очень просто. Видишь ли, у меня такая жизнь, мне это совершенно ни к чему.
Ей хочется поцеловать его. Он видит это и улыбается ей.
— А вы бы рассказали об этом своей матери? — спрашивает она.
— О чем?
После небольшого колебания она говорит:
— О том, что с нами случилось.
Они смотрят друг на друга. Он ее не понимает и готов сказать ей об этом. Но говорит почему-то совсем другое:
— Да. И сразу же. Мы проговорили бы с ней всю ночь. Она обожала такие истории… как бы это сказать… неожиданные, что ли.
— Да, так можно сказать. Но можно сказать и по-другому.
Он смотрит на нее:
— А ты… своей матери… ты бы рассказала?
— Ни за что! — Она смеется. — Ну разве что намекнула.
Китаец улыбается.
— И все? Больше ничего и никогда?
— Ничего. И никогда.
Она берет его руку, целует ее.
Лицо его обращено к ней, но глаза закрыты.
— Ты ошибся, ты ничего не рассказал бы своей матери.
Она улыбается ему, милая, ласковая. Смотрит на него.
— Вообще-то мне двадцать семь лет. У меня еще нет профессии… — говорит он.
— И к тому же вы китаец…
— Да, еще и это… — Он пристально смотрит на нее, — но как же ты мила… Тебе об этом говорили?…
— Нет, — улыбается она.
— И красива. Тебе говорили, что ты красива?
Нет, этого ей не говорили. Ей говорили, что она маленького роста, это да, но то, что она красива — нет, не говорили.
— Нет, — она улыбается, — об этом мне еще не говорили.
Он смотрит на нее.
— А тебе было бы приятно это услышать? — спрашивает он.
— Да.
Китаец смеется как-то по-другому. Она смеется вместе с ним.
— Значит, тебе еще вообще ничего не говорили…
— Наверно.
— Неужели ни один мужчина не говорил, что он желает тебя? Быть такого не может!
На сей раз девочка не смеется.
— Да… такое говорили… шпана всякая… да они просто так болтали, смеялись надо мной… Еще метисы говорили. Но французы никогда.
Китаец тоже перестал смеяться.
— А китайцы?… — спрашивает он.
Девочка улыбается.
— А ведь правда, китайцы тоже никогда не говорили… — отвечает она несколько удивленно.
Молчание.
Неожиданно китаец улыбается бесхитростной детской улыбкой.
— Тебе нравится учиться?
Она задумывается, говорит, что даже не знает, нравится ей или нет, но, пожалуй, все-таки нравится. Китаец рассказывает что он хотел учиться в Пекине, в Университете на филологическом факультете. И мать его была не против. А вот отец не захотел. Оказывается, теперь главное для китайцев — знать французский и английский. Да, он ведь не сказал, что специально, чтобы изучить язык, жил в Америке целый год.
— И кем вы потом будете?
— Банкиром, — он улыбнулся, — как все мужчины в моей семье. Вот уже сто лет все они банкиры.
Девочка говорит, что Голубой Дом — самый красивый дом в Виньлонге и Садеке и что отец его, должно быть, миллионер.
Он смеется, объясняет, что в Китае дети никогда не знают, сколько денег у их отцов.
И вот что еще он не сказал: каждый год он стажируется в больших пекинских банках. Теперь он говорит ей об этом.
— Не в Маньчжурии? — спрашивает она.
— Нет. В Пекине. Наша семья сейчас одна из самых богатых в Китае, и отец не считает Маньчжурию подходящим для меня местом.
Они проезжают по поселкам, где только рис окрест, дети и собаки. Дети играют прямо на дороге между рядами соломенных хижин. Их стерегут собаки: желтые, тощие деревенские псы. Заслышав автомобиль, на насыпи, что идет вдоль дороги, показываются родители, проверяют на месте ли их дети и собаки.
Проехав очередной поселок, девочка снова засыпает. Когда едешь по дорогам Камау между рисовыми полями и небом, да тебя еще везет шофер, трудно не уснуть.
Она открывает глаза. Снова закрывает. Они больше не разговаривают. Она полностью в его власти.
— Закрой глаза, — говорит он.
Она закрывает глаза.
Его рука гладит ее лицо, губы, закрытые глаза. Она сидит, не шелохнувшись — он знает, что она не спит, но делает вид, что не знает.
Очень тихо и медленно он произносит длинную фразу по-китайски.
Не открывая глаз, она спрашивает, что это значит, — он отвечает, что говорил о ее теле… и он не знает, как ей объяснить… дело в том… что с ним такое в первый раз…
Внезапно его рука останавливается. Она открывает глаза и закрывает их опять. Его рука снова приходит в движение. Его рука нежна, она не делает резких движений, она более чем деликатна, она словно воплощает вековую мягкость и тела, и души.
Он тоже закрыл глаза, когда его рука ласкала ее веки и губы. Рука отрывается от ее лица, спускается вдоль тела. Иногда останавливается, словно чем-то напуганная. Наконец он убирает руку.
Смотрит на девочку.
Поворачивается к окну. Спрашивает так же ласково, как только что гладил ее, сколько ей на самом деле лет.
Она в нерешительности. Потом говорит извиняющимся тоном:
— Я еще маленькая.
— Так сколько тебе лет?
— Шестнадцать.
— Нет, — улыбается он, — это неправда.
— Пятнадцать… пятнадцать с половиной… Годится?
Он смеется:
— Годится.
Молчание.
— Чего же ты хочешь?
Девочка не отвечает. Возможно, она не поняла вопроса.
Китаец больше не спрашивает, он констатирует:
— Любовью ты, конечно, никогда не занималась.
Девочка молчит. Хотя ей хочется ответить. Но на такие вопросы она отвечать не умеет. Он наклоняется к ней. Она молчит, и он понимает, что ей хотелось бы что-то ему сказать. Только сказать это она еще не умеет и, конечно, все это пока что представляется ей чем-то постыдным.
— Прости меня, — говорит китаец.
Они смотрят в окно.
Они смотрят на океан рисовых полей Кохинхина. Равнина, залитая водой, перерезанная узкими, прямыми, белыми тропинками, по которым быстро катятся повозки. Адская жара, недвижная, величественная. До самого горизонта — неправдоподобно ровная, будто шелковая поверхность дельты. Позднее девочка будет рассказывать о туманной стране детства, о тропической Фландрии, едва освобожденной от воды.
Они молча проезжают по этому необозримому пространству.
А потом она вдруг начинает говорить: о почве, которая на этой окраине южного Индокитая такая же, как на дне моря, и стала она такой за миллионы лет до того, как на земле появилась жизнь, и крестьяне теперь, как и в досторические времена, собирают ее и переносят на твердую землю и оставляют ее там на долгие годы, чтобы дождевая вода вымыла из нее соль и сделала пригодной для выращивания риса и службы людям.
— Я родилась здесь, на Юге, — говорит она, — и мои братья тоже. И наша мать много рассказывает нам об истории этой страны.
Девочка задремала. Когда она просыпается, китаец сообщает ей, что A.M.С. их обогнала. Что она сама ведет машину, а шофер сидит с ней рядом. Девочка подтверждает, что эта женщина часто водит машину сама. Немножко поколебавшись, она продолжает:
— Она занимается любовью с этими шоферами, как и с принцами из Лаоса и Камбоджи, которые приезжают в Кохинхин.
— И ты этому веришь?