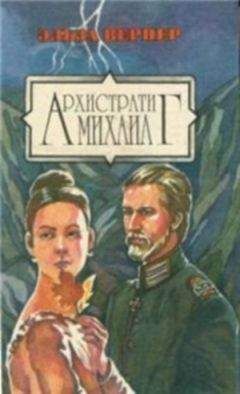В выходные дни Игорь уезжал к тетке в Подмосковье. Он очень изменился. Похудел, под глазами залегли темные тени, взгляд стал жестче, а речь определенней.
Однажды выставленная мамой на улицу — проветрить голову от учебников, — Кузя забрела во дворик.
Заброшенная голубятня уныло мокла под моросящим весенним дождем, одинокий голубь, разгуливающий возле лестницы, увидев Кузю, виновато спрятал голову в подмокшие взъерошенные перья и засеменил прочь, подрагивая сложенными крыльями.
Под лестницей, ведущей на галерею, разлилась традиционная лужа. Здесь каждую весну хлюпали резиновыми сапожками двойняшки, пуская бумажные кораблики. Отчужденно глядела с террасы бабка Нюта. Бабкины глаза со знакомым Кузе сиреневатым налетом старости глядели на Кузю и, казалось, не видели ее.
— Бабушка Нюта, это я, Наташа. Вы не узнаете меня?
Бабка закивала головой.
— Да как же, узнала теперь. Редко заходишь, деточка. Как твоя учеба? Заходи, чайком тебя сейчас напою.
Бабка засуетилась, сделалась словоохотливой и радушной.
Кузе не хотелось чаю, но она не стала обижать бабку и поднялась к ней в комнату.
Тесная, душная комната, с иконостасом в углу, горящей лампадкой, цветами из бумаги и воска, скорей напоминала келью.
Прихлебывая чай из блюдечка, бабка строчила слово за слово, будто читала заупокой по семье Турбиных.
— Истинно божий человек была мать их, Зинаида Ильинична. И чувствовала ведь конец-то свой и никому даже пожалеть ее не дала. Сгорела ведь, истаяла, как свеча, не пережила смерти Евгения своего. Надо было бы взбодриться ей, ради детей зажить. А она все об нем одном тосковала. Игорек у ней золото. На работе своей так вымотается, идет по двору, еле ноги передвигает. Ему бы выспаться лечь, а здесь уроки… заглянула к нему вчерась вечером, а он спит за столом с книжкой под щекой, заместо подушки. Нельзя ему так надрываться, у него самый рост организма сейчас. Он, вишь, в отца упорный. Должен, говорит, двойняшей в дом забрать, а то без них совсем не жизнь. Я ему: «Игорек, может, у тетки-то им и лучше? Она и сготовит, и постирает, и ласка им, сиротам, женская нужна». А он ни в какую. Сам, говорит, должен отвечать за них. Мама, же тащила нас три года одна? Что же я, говорит, не выдержу, что ли? Да я, говорит, бабка Нюта, всяческое уважение к самому себе потеряю. А без этого я никак жить не могу, ежели без уважения к себе самому. А уж как двойняшей жалко, уж как их, сироток обездоленных, жалко…
Бабка запричитала, завыла, развернувшись к божьему лику, закрестилась мелко, выпрашивая у господа милости к рабам его малолетним.
Кузя отодвинула чашку и, пробормотав «до свидания», вышла на террасу.
Долго бродила она вдоль арки под мелким моросящим дождем.
Уже стемнело, когда раздались торопливые шаги и гибкая тень заскользила по каменному своду арки.
Кузя кинулась навстречу. Игорь вздрогнул.
— Наталья, это ты? Ты чего? Кузя мотнула головой;
— Я… ничего.
Шагнула к нему, обхватила обеими руками за шею…
На улице по-прежнему противно моросил дождь, время от времени забрасывая резкими порывами ветра охапки сырости в полутемную арку.
Фары мчавшихся по набережной машин выхватывали на мгновение из ее полукружия две застывшие фигуры.
Голоса редких прохожих обрывками непонятных разговоров залетали в арку. Кузя чувствовала на лбу его теплые губы. Они двигались почти беззвучно, но ей было внятно каждое его движение, чуть уловимый шелест его губ.
— Только не надо меня жалеть. Слышишь, Наташка, пусть все жалеют, а ты не должна. Я не хочу… И поэтому ты не смеешь…
— Гошенька, а помнишь у Достоевского… У него любить — значит жалеть. Я ведь жалею не так, как бабка Нюта. Я в другом смысле, еще неискаженном… Жалею, значит…
— Если я буду знать, что ты у меня есть, — я все смогу… Мне так нужна ты. Кузя ты моя…
На кухне резко зазвонил телефон.
Еще крепче прижавшись лбом к стеклу, сквозь муть разводов я увидела, как гуськом потянулись на детскую площадку неуклюжие, смешные детсадовцы.
Требовательные телефонные гудки сверлили внутренности, и с каждым звонком поднималось откуда-то из глубины желание войти в кухню, прижать к уху прохладную трубку, увидеть нарочито презрительную усмешку.
Наверняка звонил мой Макаркин.
Когда я работала дома, он всегда звонил из своего МИДа и каждый раз обеспокоенно спрашивал:
— Ну, ты по мне хоть капельку соскучилась?
Как будто я могла, не солгав ему, ответить: да. Макаркин часто повторял изумленно:
— У меня такое чувство, что мне всю жизнь предназначено домогаться тебя.
Мне показалось, что есть нечто символичное в том, что именно сейчас я стою, прижавшись лбом к стеклу, и вижу мир через мутную пелену дождевых затеков.
Полтора года назад, вернувшись из-за границы, истосковавшись по Москве, по ее суматошным улицам, непрекращающейся толчее метро, беспорядочной сутолоке москвичей и приезжих, я отправилась бродить по городу. Просто так, куда приведут ноги…
Говорят, подсознание никогда не прекращает своей работы. Человек живет, не отдавая отчета в своих мгновенных, чиркающих, как след падающей звезды, ощущениях, не фиксируя и не запоминая своих ассоциаций, тревожных снов. Он не ведает о разоблачительной деятельности собственного никогда не дремлющего подсознания, которое вдруг внезапным прорывом из подкорки выдает, как вычислительная машина, результат многолетней работы, расшифровывая и переводя на чувственный, эмоциональный язык свой неведомый код…
Мои ноги словно знали, куда меня привести… Я остолбенела от неожиданности, очутившись вдруг на берегу Канавы и внезапно зажмурившись от нахлынувших детских воспоминаний. Так же, как тогда, спешили возбужденными группами школьники на экскурсию в Третьяковку, а с другой стороны Канавы бронзовый Репин, величественный и покойный, с застывшей навсегда кистью в руке, следил издалека за потомками, спешащими на свидание к его картинам. Так же неслись над водой напевные «и — раз!» — и легкие многовесельные байдарки скользили как бы без усилий по темной, неподвижной воде.
Я подошла к красному кирпичному зданию моей школы.
— Тетя, у вас случайно спичек не найдется? — таинственно, вполголоса обратился ко мне долговязый школьник.
— Найдется, деточка, — усмехнулась я и протянула ему зажигалку.
— Ух ты! — восхитился долговязый. — Я сейчас. — И скрылся за углом школы, откуда через несколько секунд послышался дружный кашель.
— Спасибо, — появился долговязый, пряча в кулаке дымящуюся сигарету и с одобрением разглядывая мой «фирменный» джинсовый комбинезон.
— Да не за что, кашляйте, — ответила я. Долговязый довольно ухмыльнулся и скрылся за углом.
На тротуаре билась и взлетала тяжелая веревка, и школьницы, выстроившись в длинную очередь, с визгом и хохотом мастерски прыгали через нее, проделывая ногами всевозможные пируэты. «Мы прыгали как-то по-другому. Ишь, как все усовершенствовалось», — пронеслось в голове. И я почувствовала вдруг нахлынувшую жгучую зависть к этим визгливым девчонкам с голыми коленками, к их не замутненному дождевыми разводами веселью, ко всему их истовому школьному бытию.
Из распахнутых окон выплеснулся, зажурчал по переулку голосистый звонок, призывавший подняться в классы и продолжить уроки.
Рванулись к школьным дверям растекшиеся по переулку школьники и, образовав пробку, заорали, засвистели в радостном ажиотаже, завизжали придавленные в толчее первоклашки. Высунулся из окна второго этажа толстый флегматичный парень, жующий пирожок, захрюкал, оживился от открывшейся ему дверной давки. А уже через секунду все окна были облеплены смеющимися, сияющими физиономиями, все разом загомонили, заулюлюкали…
Прошествовали шатающейся походкой на вялых ногах обалдевшие «курильщики» из-за угла. Долговязый бросил на меня быстрый, хитрый взгляд, замедлил шаг:
— А вы, наверное, учились здесь когда-то? Да?
— Вот именно когда-то. При царе Горохе. В другой жизни, — засмеялась я.
Долговязый понимающе кивнул головой, опять хитро сощурился.
— А нас учат, что никакой другой жизни нет, есть одна-единственная, да и та принадлежит не тебе, а обществу.
Я опять засмеялась:
— Сочувствую вашим учителям — если в головах учеников все ими сказанное потом таким образом перерабатывается.
Долговязый вдруг стал серьезным и очень конкретно сказал:
— Зачем вы все время смеетесь, когда вам… совсем наоборот? — Он зашагал к крыльцу, махнув на прощание рукой. Потом вдруг в два прыжка вернулся и посоветовал: — А вы не расстраивайтесь. Нам сегодня историк рассказал, будто на обратной стороне перстня царя Соломона, знаете, что было написано: «И это пройдет…»
И, разогнавшись, долговязый одним ударом пропихнул в дверь визжавшую пробку…