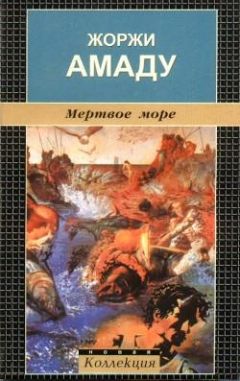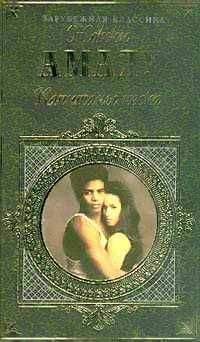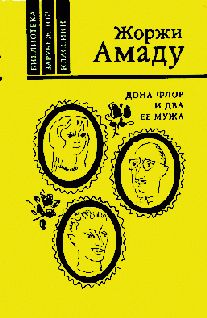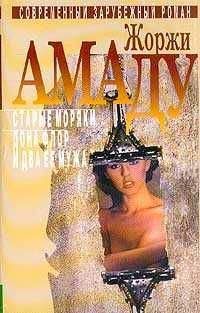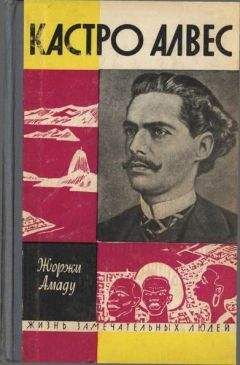— Беда случилась, лишь когда он сказал, что не вернется на корабль. Но когда дыру в посудине заделали, он и слушать не стал, махнул платочком — да и был таков…
— Не скажу, что он хорошо поступил. Хоть и моя кровь, а…
Она прервала:
— Я не говорю, что он плохой был человек. Что делать? Судьба, видно, так хотела. Я б с ним куда угодно подалась, даже если б знала, что он меня бросит. Втрескалась больно.
Женщина взглянула на старого Франсиско. А он думал: зачем она явилась через столько лет? Денег просить, что ли? Так он теперь последний бедняк, нет у него денег. Фредерико, брат, и впрямь был бабник…
— Говорил, что пришлет за мной. За вами прислал? — Она улыбнулась. — Вот и за мной так же. Когда стало сильно заметно, я хотела снадобье принять, мать не позволила. Отец был человек честный, крутой, он ко мне с ножом: «Кто да кто? Покончу с ним», — кричит. У меня и посейчас шрам под коленкой остался. Не дрогнула рука у отца-то.
Зачем она подымает юбку и показывает шрам на голой ноге? Франсиско не тронет женщину, которая была с его братом, это — большой грех, за него человека может постичь кара небесная.
— Так я и ушла из дому. Одна-одинешенька на свете. Семья крестного меня к себе взяла, прислугой. Вот раз накрываю я, значит, на стол, и вдруг как меня схватит… Боли начались…
Только теперь Франсиско понял:
— Гума?
— Ну да, Гумерсиндо. Это мой крестный имя придумал. Его самого так звали. Ну, я собрала деньжонок и привезла ребенка к Фредерико. Он уж был с другой, сына взял, а про меня сказал, что и слышать не хочет.
Снова наступило молчание. Франсиско украдкой взглядывал на женщину, все старался понять, к чему она клонит. Денег у него нет, во всяком случае сразу если, то никак нет. А спать с женщиной, что была с его братом, — нет, он такой вещи не сделает.
— Ну, я и осталась в здешних краях, ворочаться-то стыдно было. И у бедных стыд есть, верно? Не хотела я на улицу идти в моем краю, где меня знают… Мой отец был человек уважаемый, он даже одного из моих братьев учиться послал, на врача… Ну, а потом меня уж по свету бросало, бросало… Да давно это было все…
Она махнула рукой и стала глядеть на корабли. Сзади, с рынка, доносился шум голосов, там спорили, смеялись
— Я только три дня тому назад приехала из Ресифе. Давно хотела на сына взглянуть, знакомый один мне сказал, что Фредерико умер два года назад. Так что я за сыном… Сама его растить буду…
Франсиско не слышал уже шума, доносившегося с рынка. Он слышал лишь слова женщины, уверявшей, что она — мать Гумы, и приехавшей за ним. Он не любил спорить с женщинами. Начнешь с ними — конца не видно. Но сейчас ему придется поспорить, ибо он ни за что не отдаст Гуму. Мальчик уже научился управлять рулем на шхуне и свободно мог поднимать своими детскими руками большие кули с мукой. Спорить Франсиско привык, но только с суровыми моряками, крепышами-шкиперами, с кем можно не бояться крепких слов, ибо они-то сумеют за себя постоять. Но с женщиной, тем более такой, как мать Гумы — в шелковом платье, и духами от нее несет, и зонтик на руку повесила, и зуб во рту золотой, — нет, с такой женщиной Франсиско спорить не осмелится. Если невзначай сорвется у него некрасивое словцо, так ведь она, поди, и расплакаться может, а Франсиско не мог вынести, когда женщина плачет. А к тому ж брат и вправду нехорошо с нею поступил. Однако если б моряки только и думали что о женщинах, которых они покидают в каждом порту… А разве лучше, когда моряк женится и потом оставляет жену вдовой или когда жена умирает от сердца при виде мужа, вернувшегося невредимым после бури? Еще хуже. Нет, Гума не женится. Он всегда будет свободен. Свободным будет ходить в плавание под своим парусом. И уйдет с Матерью Вод, когда захочет. Не будет у него якорей, привязывающих его к земле. Человек, живущий на море, должен быть свободен. А если эта женщина увезет Гуму, что станется с мальчиком? Будет он столяром, каменщиком, может, адвокатом или даже священником в женских юбках, кто знает! А старому Франсиско придется только краснеть за то, что он толкнул на такое своего племянника, и ничего ему больше не останется, как самому отправиться навстречу Жанаине в какую-нибудь темную ночь. Нет, ни за что на свете не даст он этой женщине увезти Гуму.
А женщину уже удивляло молчание Франсиско. С рынка слышались голоса: «Так дорого? Да вы что? Пугаете?» И обрывки какого-то разговора издалека: «Он как фукнет раза два из своего револьвера и побежал. Но человек — он человек и есть, так что я собрался с духом и тоже выстрелил…»
Старый Франсиско вдруг засмеялся:
— Знаете что, милая? Вы не увезете парня, нет. Да что вы с ним делать будете?
Он взглянул на женщину, ожидая ответа. Но лицо его говорило красноречивее слов, что нет на свете такой силы, какая заставила бы его отдать Гуму. Женщина неопределенно помахала рукой и ответила:
— Вообще-то я сама не знаю… Хочу его увезти, потому что он мой сын и отца у него теперь нету… Жизнь гулящей женщины сами знаете какова… Сегодня тут, а завтра в другом месте… Но если он останется, то с ним будет как с отцом, утонет когда-нибудь…
— А если он пустится в плавание под вашим парусом, тогда как?
— Я его в школу отдам, он научится читать, может, адвокатом станет, как дядя, брат мой… Не утонет в море…
— Милая женщина, судьба наша там, наверху, пишется. Коль ему суждено уйти с Матерью Вод, то никакая сила его не избавит от этого. Если он останется здесь, вырастет настоящим человеком. Если уйдет с вами, то кончит бездельником за трактирной стойкой…
— Это вы так думаете…
— Да где вы достанете денег на его учение? Вашей сестры я немало повидал. Сегодня получите, завтра нет… Сами сказали, что нынче тут, а наутро в другом месте… А сыну женщины с таким занятием иной раз хуже, чем щенку, приходится, сами знаете…
Она опустила голову, потому что знала, что это правда. Увезти сына с собой — значит обречь его на вечное унижение, потому что всегда и для всех будет он сыном публичной женщины. Где б ни очутился он — на улице ли среди других мальчиков, в школе ли, или еще где, — ничего не сумеет он сказать, нигде не посмеет свое мнение выразить, потому что всякий сможет бросить ему в лицо самое худшее оскорбление, какое только есть на свете…
С рынка все еще доносился голос мужчины, рассказывающий о происшествии: «…я только и успел увидеть, как блеснул нож, ну, думаю, выпустит мне сейчас кишки. Замахнулся я, коленом его как поддам. Нешуточное было дело».
…Да нет, гораздо лучше, чтоб Гума остался здесь, научился управлять рулем, ходил в плавание, заходил в чужие порты, оставлял там будущих сыновей под сердцем чужих женщин, вырывал ножи из рук мужчин, пил тростниковую водку в кабачках, татуировал сердца у себя на руке, боролся с волнами в бурю, ушел в глубину с Иеманжой — Хозяйкой Моря, когда пробьет его час. Там никто не спросит, кто была его мать.
— Но я могу иногда приезжать взглянуть на него?
— Всякий раз, как потребует ваше сердце… — Теперь Франсиско было жаль женщину. Даже самая плохая мать не может совсем уж не любить своего ребенка. Взять хоть китов: пускай они животные, и мыслей у них нету, а как защищает самка своих детенышей от китоловов! Иной раз даже умирает за них!
— Сегодня же вы можете его увидеть. Он плавал в Итапарику, вечером, попозже, вернется. Вы погодите уезжать…
На лице женщины изобразился испуг:
— Он уже один ходит на шхуне?
— Один. В Итапарику и обратно. Учится. Да он не хуже взрослого.
Теперь на лице женщины сияла гордость. Ее сын, которому едва одиннадцать лет сравнялось, уже сам управляется с парусным судном, не боится моря, — он уже настоящий мужчина. Она спросила совсем как-то по-детски, словно голос ее исходил в эту минуту из самой глубины сердца:
— Он похож на меня?
Старый Франсиско взглянул на женщину. Несмотря на гнилые зубы, она была красива. А золотой зуб так даже украшал ее. Тонкий запах духов исходил от нее, и так странно было вдыхать его здесь, на набережной, густо пахнущей рыбой! Губы были ярко накрашены, словно кто искусал их в кровь. Руки, как-то бессильно повисшие вдоль тела, были округлы и крепки. Несмотря на все, что выстрадала, глядела она молодо, трудно даже было поверить, что это мать Гумы. А ведь уже одиннадцать лет, как вела она жизнь уличной женщины, спала с чужими мужчинами, терпела от них грубое обращение и даже побои. И, несмотря на все это, была все еще лакомый кусочек. Если б не то, что она когда-то спала с Фредерико…
— Похож, да. Глаза у него аккурат как у вас. Да и нос ваш.
Она улыбалась. Это была, верно, самая счастливая минута в ее жизни. Когда-нибудь, когда красота ее совсем увянет, когда мужчины уже выпьют из нее все соки, будет ей обеспечена спокойная старость: она переедет к сыну, станет готовить ему обед, ожидать на берегу его возвращения в бурные ночи. Ей не придется ничего ему объяснять и ни в чем оправдываться. Сыновья умеют все прощать старухам матерям, вдруг появляющимся в их доме. И женщина вся отдалась счастливой мечте о будущем и, убаюканная ею, радостно улыбалась — губами, глазами, всем лицом, и даже этот запах духов, напоминающий о кабаках и притонах, вдруг исчез куда-то, и от нее так свежо пахло теперь морем и соленой рыбой.