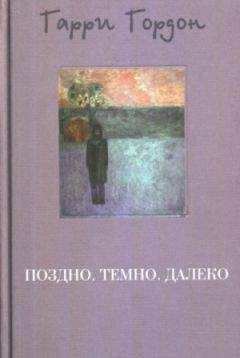— Ну, тогда ладно. Со свиданьицем.
— А где Мыл? — спросил Ефим.
— Сашка? Они с Гришкой Молодецким поехали на каникулы. Проводниками, куда-то в Среднюю Азию. Заработать надеются.
— А что, Гришаня ушлый. Дядьку, это ты родился в рубашке! Как Евтихиевна его тебе нашла!
В позапрошлом году, без звонка, ворвалась Алла Евтихиевна. Зная про ее клаустрофобию — Алла не ездила в метро, — Карл и Татьяна встревожились — добираться на перекладных через всю Москву — что-то должно было случиться. Так уже было однажды — Алла привезла весть о гибели Саши Тихомирова.
На этот раз некрасивое лицо ее сияло, мешки под глазами подпрыгнули — она была хороша.
— Моей приятельницы сын, — начала она, — поступает в Щукинское. С ним поступает мальчик, зовут его Саша, фамилия — твоя. Я просила осторожно узнать отчество. Отчество сходится. Отца не знает — есть где-то, говорит, — кажется, художник. Родился Саша в шестьдесят четвертом году.
— Аллочка, — заволновалась Татьяна, — как ты думаешь, он захочет прийти?
Алла посмотрела на Карла.
— Так как? — грубо спросил Карл и сглотнул. — Приведешь?
— Попробую.
На следующий день Алла позвонила и сказала, что придут втроем, с Пашей, сыном приятельницы — без него Саша идти не хочет.
«Что люди чувствуют в таких случаях?», — думал Карл, расхаживая по кухне. Он не мог определить своего состояния, одно лишь было очевидно — состояние было неприятное, как, впрочем, всякое ожидание, и еще что-то было, невнятное. Хорошо, что с Аллой. Она выручит.
Алла была само изящество пополам с иронией. Она была восхитительна, даже когда забрасывала своего возлюбленного маринованной килькой, на почве ревности, разумеется.
Наконец, раздался звонок. Таня не торопилась открывать, хоть была ближе к двери. Карл вздохнул и пошел. На пороге стоял Магроли.
— Еще не пришли? — быстро спросил он.
— Фу ты, черт, — ругнулся Карл, — ты-то как узнал?
— «Голос Америки» передавал, — Магроли тяжело дышал. — Надо же тебя поддержать.
— Ну что за литературный идиот, Танечка, я не могу на него…
Раздался звонок. Алла стояла посередине. Толстый невозмутимый молодой человек шагнул вперед, Алла поспешно взяла за руку второго, тощего и длинного, в очках, и с пафосом произнесла без тени иронии:
— Саша! Вот твой папа!
Первым засмеялся Карл, затем Саша, через несколько секунд смеялись все. Аллочка сконфуженно засмеялась последней. Так или иначе — она выручила.
— Пойдемте в кухню, — сказал Карл. Мальчики поставили на стол две бутылки сухого вина.
— Эка невидаль, у нас тоже есть, — как-то уж больно вычурно сказал Карл.
Потоптавшись, он взял тряпку и стал стирать со стола несуществующие крошки:
— Терпеть не могу богему.
Саша выпил стакан залпом.
— Отпустило, — сказал он озираясь.
Магроли сидел на низкой скамеечке и, как собака Мотя, смотрел в глаза то одному, то другому. Ох, как ему было интересно. Толстому Паше тоже было интересно, но он молча налегал на вино.
Видимо, чтобы сразу устранить все недоразумения, Саша начал рассказывать о бабушке своей, Марии Михайловне. Оказывается, она часто вспоминала Карла, и, что вовсе уж странно — по-хорошему.
— Саша, вы, наверное, в маму? — деликатно спросил Магроли. — Вон какой лобастый, голубоглазый…
— Фимочка, в таком случае, вы похожи на Довженко, — рассердилась Татьяна. — Вы что, не видите — рот и кадык — Эдика, глаза — Розы, овал лица — бабы Оли.
— Тю, ты дывы… — удивился Магроли, — и правда.
Вино быстро кончилось, Карл с ребятами пошли в магазин. Паша отстал.
— Это он из деликатности, — объяснил Сашка, — якобы нам есть о чем поговорить.
И они стали говорить, и выяснилось, что вино надо брать крепленое, и побольше…
Через час Магроли называл Сашку «Мыл», точнее, «Мл.», что значит — младший.
— Гришка Молодецкий — хам и ворюга, — возразил Карл. — Как бы Сашке с ним не вляпаться в историю.
Гришка учился на режиссерском факультете, был он маленький, черный, кучерявый, носатый, громко играл на гитаре, пел смешные антисоветские песни, впрочем, был обаятелен, и Карл напрасно так о нем отозвался, просто время пришло раздражаться.
Татьяну чуть не хватил удар, когда она обнаружила однажды утром Молодецкого, спящего в Катиной детской кроватке со стеночкой.
— В этой девице что-то есть, — сказал Магроли после четвертой рюмки. — Видал, какие у нее черные волосы. И челка. Как там у Александра Семеновича: «О, как черна твоя прямая челка!»
— Опять Кушнер, — застонал Карл, — чего доброго — до Бродского доберешься. Ну тебя, Фима, с твоей жидовской поэзией — мелочной, обидчивой, спесивой… Я Мандельштама люблю.
— Ну, ты силен разбрасываться. Такие поэты все-таки на дороге не валяются, согласись.
— Да, я согласен, — серьезно отвечал Карл, — мало того, кому-нибудь и морду за них набить не грех, но если на всю катушку — земноводные они какие-то…
Разговор явно не получался, Магроли скисал, то ли ныть начнет, то ли к таксистам побежит…
— Давай спать, Фима, мне вставать часов в шесть.
— Ты иди, я посижу еще…
— Ладно, смотри, не переворачивай ничего и дом не сожги.
«Дорогие мои батьки! У меня для вас два сообщения — одно хорошее, другое — плохое. Начну с плохого: жаркое лето в Москве невыносимо, портфель, набитый книгами тяжел, клонит долу, а то и ко сну, а отпуск, сами понимаете, еще не положен.
Теперь хорошее: мне обещали дать неделю, а то и полторы за свой счет, где-нибудь в июле я вскочу на лихой паровоз и, размахивая шаблюкой, поскачу в родные пенаты. Как написал про меня пасквильный Карла, —
Ни холода, ни зноя,
Но испытаешь ты Врожденное,
сквозное Блаженство правоты.
Это он таким образом выпихивает меня из Москвы, но я не дрогну, ибо за мной — Белые Столбы!
Как вы там, без меня? Батя, ешь помидоры, они выгоняют соль. Мама, скажи Лельке, что если она защитится здесь, в университете, да еще и по обэриутам, — ей цены не будет. Я все разузнаю. Впрочем, это осенью, а до этого, надеюсь, сам ее увижу и уболтаю. Как Мишаня себя чувствует? Сценарий, что мы с ним писали, я показал Карлу, но тот ругается, обвиняет в зубоскальстве и еще в чем-то, не уяснил. И он, кажется, тоже. Впрочем, он ничего не понимает. За сим — заканчиваю. Это я только подал голос. Скоро приеду и наговоримся. Целую и обнимаю. Фима».
Магроли спал на боку, свалив на пол желтые ноги, переносица его почернела, под глазами образовались узкие подтеки. Карл вздохнул, укрыл его съехавшим покрывалом, быстро собрался, проверил, все ли на месте — паспорт, деньги, квитанции, и оставил на кухне записку: «Дверь захлопни».
Было около семи, поздновато для ломбарда, можно не успеть. Ломбард закрывался ровно в пять вечера, ноль-ноль, ни секундой позже.
«Дергаться на этот раз не буду, — решил Карл, — не успею, — потрачу еще завтрашний день. Мало ли я их потратил».
Он понимал, что дергаться все-таки будет, да и без этого дерганья простоять восемь-девять часов в очереди невыносимо, а так все-таки развлечение — подсчитывать, с секундной стрелкой, сколько времени торчит человек у окошка, выводить среднюю цифру, считать, сколько людей в очереди, сколько отошло и еще придут, учитывать настроение приемщицы и т. п.
Солнце было уже высоко, круглые бока шестнадцатиэтажек озарены, сверкали стекла верхних этажей, прошла поливальная машина, в легком небе светился шлейф самолета, у самой остановки автобуса чернел влажный ворох леса.
И такой день — в гулком, сыром зале… Скорее в Чупеево. Зато отстреляюсь сегодня, — впереди июль, август, хорошо бы в сентябре получить остальные.
Больше двух недель в деревне — с бабушками, детьми и зверинцем — выдержать было трудно. Обиднее всего, что Таня там не принадлежала ни себе, ни ему, никому — всем. Она мужественно радовалась этому ковчегу, но — Карл знал — уставала от громкого взволнованного хора. Помочь нельзя, наоборот — вплетет и Карл свой недовольный голос, да еще и не в той тональности.
И все-таки холодным вечером, когда не клюет, а уйти невозможно — поплавок живет, дышит, сомневается, — препоручив детей усталым от огорода бабушкам, Таня, видная издалека, сиреневая от заката, медленно приближалась к Старой деревне, к толстым усадебным березам, приносила дедушкин брезентовый плащ, термос с крепким чаем и бутерброды. Карл отдавал Тане тяжелую удочку — телескоп, с наслаждением держал в посиневших руках горячую крышку с чаем, проглатывал бутерброд.
Обыкновенно, когда Таня была уже в десяти шагах, случалась поклевка, но Карл, как правило, опаздывал. Все равно, с приходом Татьяны происходило на дне оживление, случалось и ей, почти уже в темноте, вытащить окушка, а то и подлещика.