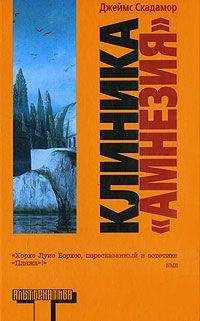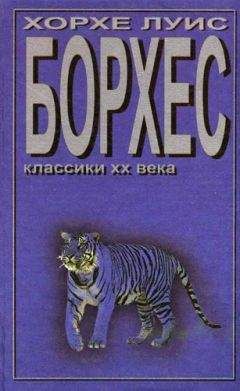Недовольно поморщившись, отец отошел и занял место по другую сторону моей кровати.
— Послушайте, прежде чем вы оба что-то сейчас скажете, — начал я. — Прежде всего позвольте сказать мне, что я прошу у вас прощения. Вы наверняка ужасно на меня сердитесь, но если вы позволите объяснить вам, почему мы это сделали, то…
— Мы не сердимся, — заверила меня мать и приятно пахнущей рукой убрала прядь волос с моего лба. — Мы не сердимся на тебя, Анти. Но мы узнали очень плохую новость.
К сожалению, это был уже не очередной сон.
Его тело раз за разом швыряло приливом на основание утеса, и в конечном итоге Фабиана нашли плавающим лицом вниз. Он ногой зацепился за камень прямо под красной часовенкой в память погибшему серфингисту. Отнюдь не те подробности, какие мне следовало бы узнать, но я все равно их узнал. Я не раз представлял себе, что на скале вполне мог появиться еще один памятник, и тот, кто возлагает цветы и зажигает свечи в память о незадачливом любителе серфинга, теперь делает то же самое и в память о Фабиане. Хочется надеяться, что я прав, что так оно и есть.
Я уехал из Эквадора, даже не побывав на похоронах друга, так что мне так и не довелось узнать, как в этой стране проводятся траурные церемонии. Впрочем, представить нетрудно. Фабиан неоднократно, с мельчайшими подробностями рассказывал мне о похоронах. Поэтому мне не составило особого труда мысленно увидеть рыдающих женщин в черном, торжественную процессию и, возможно, белый гроб, специально предназначенный для тех, кто, в глазах церкви не совершив грехов, слишком рано покидает наш бренный мир. Однако все эти представления были чисто умозрительными. Мне не довелось присутствовать при отпевании, я не стоял в церкви, в которой пахло ладаном, не видел убитых горем безутешных родственников, не видел, как его похоронили или кремировали. Этого от меня… не требовалось.
Но, как я уяснил для себя, когда кто-то внезапно исчезает из вашей жизни, он тем более отчетливо предстает в вашем воображении. Оказалось, что мне не нужно было прощаться с Фабианом. Он с тех пор живет в моем сердце, полном сожаления и раскаяния, и наверняка останется в нем навсегда. По крайней мере пока что покидать его он не собирается.
Я пытался заставить себя избавиться от воспоминаний о нем, как делают многие люди, раз и навсегда избавляясь от юношеской дружбы, но в моем случае мои отношения с Фабианом прервались более решительным образом. Именно этот факт и усугубляет все дело, потому что труднее всего жить с осознанием того, что мы вряд ли сохранили бы прежние дружеские отношения, останься он жив. Нам предстояли разные дороги: мне — возвращение в Англию, Фабиану — судьба, уготованная ему Суаресом: учеба в Соединенных Штатах, а в дальнейшем какая-нибудь доходная профессия. Мы бы несколько лет переписывались, может быть, даже пару раз встретились, однако дальше этого наши последующие отношения не пошли бы. Былая дружба превратилась бы в пыльные статичные воспоминания, и это нормально, потому что, останься Фабиан в живых, его бы сейчас не было в моем сердце. Будь он жив, он по-прежнему рассказывал бы людям свои невероятные истории. Будь он жив, я вряд ли сохранил бы воспоминания о нем. Но я все-таки не забываю его. Его улыбка запечатлелась в моей памяти, подобно усмешке юного рекрута на старой виражированной фотографии. И мне ни за что не избавиться от слов, молотом вбитых в мое сознание: будь он жив. Как я его за это ненавижу.
Когда я в сопровождении родителей покидал больницу, нам пришлось пройти через главную палату травматологического отделения. Коридоры были заставлены кроватями, на которых лежали солдаты, получившие ранения в джунглях при перестрелках с перуанцами. Они терпеливо ждали, когда им будет оказана медицинская помощь. Я стоически прошел мимо, спокойно поглядывая на них с таким видом, будто был их фельдмаршалом, проверяющим повязки, наложенные на свежие раны, которые быстро пропитывались густой артериальной кровью, и даже удостоил кое-кого улыбки, одобрительной или ободряющей. Родители шествовали впереди, снедаемые желанием как можно скорее покинуть больничное здание. Я же в отличие от них нарочно не торопился. Один солдатик, на вид всего на несколько лет старше меня, подмигнул мне и поднес к лицу раненую руку. Пуля попала ему прямо в ладонь, и сквозь красный тоннель в его плоти я увидел зрачок, расширенный от болеутоляющих.
Я помню залитую солнечным светом автостоянку рядом с больничным корпусом и раскаленный воздух в нагретой солнцем машине, когда сел в нее. Помню, как мы молча выехали на шоссе. Сначала я пытался держать глаза открытыми, рассматривая проносившийся за оконным стеклом пейзаж. Однако хватило меня ненадолго — в глазах каждого мула, трусившего вдоль дороги, или усталого пассажира автобуса, или монахини, катившей в старом заржавленном «кадиллаке», я видел его, как будто силой вины Фабиан вселялся во все живое, что встречалось мне на пути. Остальную часть путешествия в столицу я практически не помню. Знаю только, что поездка не шла ни в какое сравнение с той, что я совершил в обществе Фабиана. Мои родители были одержимы идеей эффективности мира, власти взрослых, которая возникает в кризисные моменты жизни. Их стараниями грандиозное путешествие, принятое нами всего несколько дней назад, превратилось в банальную поездку в удобном, оснащенном кондиционером автомобиле. Большую часть пути назад я по возможности старался держать глаза закрытыми, с одной стороны, с тем, чтобы сохранить в воображении события предыдущих дней, с другой — чтобы избежать обвиняющих взглядов.
Примерно через неделю я покинул Эквадор и уже больше не вернулся в эту страну. Меня в спешном порядке самолетом отправили в Англию, совсем как какого-нибудь заложника. Родители также решили за меня, что мне лучше не приходить на похороны Фабиана. Ввиду случившегося я был вынужден на время уступить им право принятия решений. И это меня устраивало. Пусть другие принимают за меня решения до конца моих дней.
По словам родителей, власти сочли смерть Фабиана несчастным случаем. Правда, по возвращении в Кито мне предстояло ответить на кое-какие вопросы. По личной просьбе Суареса я и мои родители должны были прийти к нему домой и объяснить, как и почему погиб его племянник.
Знакомство моих родителей с Фабиановым дядюшкой состоялось в доме Суареса: если бы не трагическая гибель моего друга, это можно было назвать сюрреалистическим столкновением двух культур. Поскольку смерть незримо присутствовала подобно руке невидимого кукловода, встреча эта показалось мне крайне тягостной. Начиная с того мгновения, как перед нами распахнулись снабженные сигнализацией ворота и мы все трое в машине отца въехали во внутренний дворик, меня не покидало ощущение, что я вот-вот запаникую, что происходит нечто такое, чего не должно быть. Все было совсем не так, как мы когда-то представляли себе: этим воротам надлежало стать входом в храм удовольствий, под своды которого следовало въехать, радостно смеясь, на заднем сиденье бронированного «мерседеса». В тот день появление в доме Суареса показалось мне дорогой к неминуемой казни. Неприятное предчувствие еще больше усилилось при виде знакомого дружелюбного лица. Это была Евлалия, одетая в черное. Она открыла нам дверь и, сдержанно поздоровавшись, проводила в библиотеку. На сей раз мое обоняние не щекотали запахи кухни. Из музыкального автомата не звучали звуки песен. Нам навстречу не бросились вниз по лестнице многочисленные собаки. Все вместе это производило настолько гнетущий эффект, что еще до того, как Суарес переступил порог, я не знал, куда мне деваться от стыда. Чувство вины прожигало меня буквально насквозь, и к тому моменту, когда он вошел, я почувствовал себя сваренным заживо.
Ожидая хозяина дома, мои родители попытались с нарочитой небрежностью познакомиться с жилищем Суареса. Мать, манерно нахмурив брови, расхаживала вдоль книжных полок. Отец склонился над музыкальным автоматом. Мне стало стыдно за них перед Суаресом, стыдно за то, как бесцеремонно они рассматривают дом, столь мне знакомый и столь дорогой моему сердцу. Я с трудом заставил себя остаться в библиотеке, хотя меня так и подмывало выбежать вон и прямо по байроновским клумбам с экзотическими цветами выскочить на панамериканскую магистраль и, взбивая башмаками красную грязь, помчаться со всех ног на юг.
— Какая ужасная энциклопедия, — прокомментировала мать, не обращаясь конкретно ни к кому из нас, и сняла с полки книжный том. — Такое впечатление, будто она рассчитана на детей.
— По собственному опыту знаю: книги, которые мы читаем в детстве, оказывают на нас самое сильное влияние, — произнес донесшийся от двери голос.
Исполненный непогрешимой уверенности в собственной правоте, этот голос со столь хорошо знакомым акцентом мгновенно пробудил во мне радость. Несмотря на обстоятельства, несмотря на то что никакой замечательной истории не последует, мое воображение все равно вожделенно истекало слюной, словно легендарная собака Павлова.