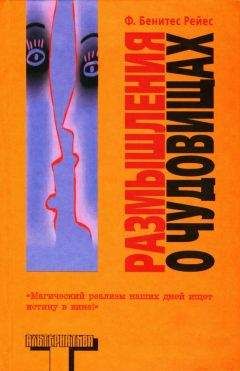— Так, значит, встречаемся там после двенадцати. Я подумаю, что надеть.
(Что хочешь, только не собачью шкуру.)
— Что хочешь, Мария.
…И мы уже были в «Оксисе», потрепанном царстве безымянности и подделки, погруженные в ирреальность грима и масок, — скрывающиеся марионетки, на одну ночь сбежавшие от самих себя. (Или что-то вроде.)
— Ты, как всегда, верен традиции, Йереми. Оделся колдуном, — сказал Йусупе, швейцар «Оксиса». — Остальные уже внутри.
И действительно, остальные были внутри: Хуп, одетый цыганом-наркоторговцем, с пальцами, унизанными кольцами, с запястьями, увешанными браслетами, с медальоном размером с яичницу на груди, в черном парике с маленькими блестящими кудряшками; Бласко превратился в мертвеца (более или менее) при помощи белого грима, хотя на нем был всегдашний черный костюм, а Мутис — во что-то непонятное: существо, среднее между попрошайкой и доктором honoris causa, поскольку он надел тунику с заплатами, а на голову — желтую академическую шапочку. Чуть позже пришла апокрифическая часть нашей шайки, так сказать: Тот, Кто Был оделся гладиатором, опоясав торс кожаными ремнями, а на половине спины, остававшейся открытой, видна была татуировка в виде бабочки размером со страуса; Кинки нарядился Зорро, со всеми атрибутами, а зловредный Молекула (он оставил Снаряда дома, с пирамидой банок пива, так он нам сказал) остроумно натянул на голову резиновую шапочку, запихнул свое маленькое тельце в белый костюм из лайкры и нацепил на задницу очень длинный хвост.
(— Что у тебя за костюм, братишка? — спросил его Хуп, и Молекула незамедлительно раскрыл ему свой секрет:
— Я сперматозоид, засранец, неужели не видно?)
Потом пришла Рут, gore-нимфа Мутиса, как всегда, одетая в траур, хотя с лицом, выкрашенным желтой краской, и с волосами, заплетенными в две косички:
— Я — в костюме изнасилованной вьетнамки.
(?)
В общем, мы все сидели там, каждый месил в душе свои самые насущные фантазии: торопливые алхимики.
— Ты принял эту гадость? — спросил я Хупа.
(«Эта гадость» — вещество, известное как GHB.)
— Да, и наш друг Тот, Кто Был, и Кинки, и мой двоюродный брат. И у нас уже крыша поползла.
Бласко, со своей стороны, увлекающийся наркотическими коктейлями (отчасти из-за своего положения наркотического попрошайки) съел половинку трипи из целой, что я подарил ему, и целую таблетку спида, переданную ему Мутисом, однако, поскольку он всегда пьет море алкоголя, результаты бывают самыми непредвиденными: ему то кажется, что он видит летающих чудищ, то он думает, что находится в раю, первое — чаще, чем второе. Не стоит даже упоминать, что молчаливый Мутис сильно накачался спидом, и полагаю, что Рут тоже. Я, намеренный подбросить дров в топку корабля, принял одну экстази и держал в кармане еще три, на всякий случай. (На случай, если мухи споют мне свою песню: зззззззззз). (Песню сна, которой невозможно сопротивляться, источающую грезы[37]).
— Привет.
Мария пришла, само собой, не в костюме Клеопатры, но по крайней мере она сделала все, что было в ее силах, чтобы присоединиться к миру колдовства: она надела белый халат, небесно-голубую соломенную шляпу, ожерелье из зубов акулы и нарисовала себе на правом глазу звезду. Тот, Кто Был незамедлительно к ней прицепился:
— Я гладиатор, бросивший свою душу львам, и львы умерли от яда. Я заставлял течь тщеславную кровь в цирках мира. Я видел, как сотни людей собирают свои собственные кишки. Я видел, как ужас мгновенно застыл в глазах армянского борца, когда я одним ударом отрубил ему руку, а всего лишь секунду спустя вскрыл ему брюхо, как человек, вскрывающий зловонный грот. Я видел, как плачут среди ночи непобедимые гиганты из Эфиопии. Так что, сеньорита, одетая ходячим абсурдом, не потанцуете ли со мной?
Но Мария сказала ему, что нет.
(— Слушай, что за костюм у этого твоего друга? Безумного поэта дискотек, или что-то вроде?)
Мне трудно было говорить с Марией, уделять ей внимание, даже смотреть на нее, отчасти потому, что ее компания была балластом в ситуации, когда человеку обычно хочется пуститься по воле волн, в этом-то и состоит достоинство таких праздников: в блуждании без компаса. Отчасти по этой причине, как я уже сказал, но отчасти также потому, что иногда экстази вызывает сложную реакцию, и тебе начинает думаться, что все жаждут оторвать тебе голову и насадить ее на кол, что все смотрят на тебя, как смотрит гриф на умирающего кабана, и тогда ты начинаешь ощущать свое тело некой хрустальной конструкцией, и видишь взгляды, прикованные к тебе, и видишь типов с враждебными глазами, продвигающихся на твою территорию, чтобы толкнуть тебя, чтобы растоптать тебя, чтобы сказать тебе, что им не нравится твое лицо и они собираются разбить его. (Конечно, это всего лишь психотический обман, по крайней мере в теории, но со всеми недостатками абсолютной уверенности.) Я смотрел на Марию и вспоминал о приговоренных к смерти собаках, и не мог выдержать ее взгляда, и хотел, чтобы она ушла, и хотел действительно быть волшебником Мерлином, чтобы заставить ее исчезнуть одним взмахом моей волшебной палочки, но Мария по-прежнему была там, рядом со мной, склонившись ко мне, невыразительная и погруженная в себя, — она пила прохладительный напиток с лимоном и качала правой ногой в такт музыки, чужая в этом мире людей, набравшихся по самые брови, одетая причудливой куклой.
Кроме того, Бласко, как можно было предвидеть, придавило по-плохому, и он начал трубить апокалипсис и непоправимое царство смерти.
(— Я мертв, Йереми. И ты тоже мертв.)
(И так далее.)
Хуп, Тот, Кто Был, Кинки и двоюродный брат Хупа Молекула сидели отдельной группкой, накачанные GHB, который не вызвал у них ни гипертермии, ни комы, а только непристойное счастье, шумное и лучистое, ведь в договорах, которые мы подписываем с наркотическими веществами, многое написано мелким шрифтом.
— Росита не придет, Хуп?
Нет, потому что Хуп поссорился со старухой Роситой Эсмеральдой, и это была стратегическая ссора: он не воспринимал ежегодный праздник в «Оксисе» иначе, как дикое одиночество. Мутис в эту ночь фланировал среди танцующих и возвращался, улыбаясь, садился рядом с Рут, а потом снова принимался фланировать среди людей, рискуя нарваться.
— А ты как, Йереми? — спросите меня вы.
Ну, так себе, потому что мужчины с мутными глазами меня оскорбляли, женщины смотрели на меня с презрением, официанты обслуживали всех вокруг, и только потом — меня, а моя челюсть была машиной для штамповки металла. (Да, это только догадки, но более сильные, чем многое в эмпирической реальности, так сказать.) (Болезненные фантазии, ранящие вымыслы…) (Скажем так.)
Кинки тоже попытал удачи с Марией:
— Ты — девушка копа? — и схватил ее за талию, но она его отстранила, и тогда Кинки, как бы в отместку, попросил у меня денег и, не знаю, как уж он ухитрился, бросил мне под ноги бомбу-вонючку. — Он, это он, — закричал он, когда зловоние стало распространяться, указывая на меня и зажимая нос.
Со своей стороны, Бласко заплетающимся языком читал Марии на ухо поэму, полагаю, полную летучих мышей и могил, и под конец сказал ей, что она тоже мертвая, потому что он видит, как из ее глаз выползают гусеницы.
(— Послушай, эти твои друзья, ну, не знаю…)
Так что, не зная, что делать, и одновременно для того, чтобы сделать что-нибудь, я пошел в уборную, измельчил полторы таблетки, вернулся к барной стойке и насыпал порошок Марии в ее лимонный напиток: химическая война. (Масштабная.)
Когда от экстази у тебя развивается паранойя, есть одно средство: принять успокоительное и лечь в постель, а ложиться в постель было почти единственным, чего я не хотел в ту ночь, так что я спросил у Хупа, не осталось ли у него GHB, и он ответил мне, что нет, но что он может дать мне половинку трипи, — в общем, я пришел в себя.
Ожидая, какое действие окажет на меня трипи и какое действие окажут на Марию полторы таблетки, я стал смотреть на одну девчонку, танцевавшую так, словно ее позвоночник превратился в змею, — она была одета в костюм вавилонского суккуба (или кого-то вроде), в трусы и лифчик с золотыми блестками, в плащ, тоже золотой, в золотые сапожки до самых бедер и в диадему в форме пирамиды — что-то вроде беспутной дочери Люцифера и Афродиты Асидалии, залитой золотом.
— Она тебе нравится? — спросила меня Мария, но я не рассматривал этот вопрос просто с точки зрения «нравится — не нравится», он перешел в несколько более радикальное измерение: в этот миг (в другой — быть может, нет, но в этот — да) я дал бы отрезать себе обе руки, чтобы иметь возможность провести четверть часа, кувыркаясь с этой дьяволицей в аду, который она изберет.
— Мне тоже нравится. Очень.
(?)
Я посмотрел на зрачки Марии: они уже очень сильно расширились.