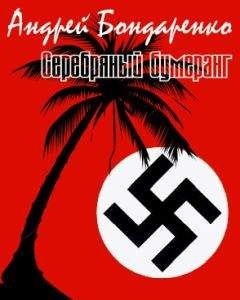— Приехала посмотреть на карнавал, да вот и осталась.
Война изменила ее: когда набрякшая от крови луна молодой хищницей всплыла на горизонте Чако, Мария сбросила прежнюю личину, как змея сбрасывает летом кожу.
Незадолго до войны, во время строительства у озера так называемого «нижнего поселка», ей удалось выпросить себе хижину из пальмы и необожженного кирпича. На другом берегу озера, на холме, стояли каменные дома, в них жили офицеры со своими семьями. Вечерами их жены и родственницы прогуливались по площади вокруг мачты, на которой трепыхался флаг. Из своей хибары Мария разглядывала добропорядочных расфранченных бабенок и подолгу смотрела на девиц, кружившихся в танце под духовой оркестр; их силуэты вырисовывались на фоне лиловато-песочного неба. Она, наверное, завидовала их кричащим, обтягивающим гибкие талии платьям, туфлям на высоком каблуке и даже вздувшимся животам беременных сеньор, которые они носили напоказ— «пупом вперед». Лунными ночами она вглядывалась в ярко освещенные окна, откуда летела музыка и веселый гам семейной вечеринки. У девушки же не было ничего, кроме худой славы, которая все росла, обволакивая ее хибару на берегу озера. Прохладный ветер из пустыни рвал циновку, заменявшую дверь, и тихонько шуршал, словно царапался иссохшими пальцами. Прямо перед циновкой сидели на корточках мужчины и дожидались очереди; когда светила луна, они прятались от патруля в бурьяне. Но патрульный тоже наведывался в хижину: спешивался и ждал вместе с другими, пока не наступит его черед, или, пользуясь своей властью, лез напролом и прилипал, как пластырь, к тростниковой циновке, прислушиваясь к глухой возне, мужскому страстному шепоту, женским насмешливым словам, а порой и ленивым пощечинам, которыми Сальюи награждала посетителя, чтобы ускорить наступление томительной тишины. Временами она выскакивала на порог проветриться. Волосы были в беспорядке, грудь и живот, рельефно очерченные лунным светом, выпирали из-под дырявой, пропитанной потом комбинации. В такие моменты эта маленькая женщина обладала безграничной властью над распалившимися мужчинами. Кто-нибудь угощал ее сигаретой, другие совали в руки заранее принесенные подарки, украденные для нее со склада: галеты, мате, муку, банки с мясной тушенкой, а порой и бутылочку пива.
Она принимала подношения и не благодарила, словно они ей полагались по праву. А когда была не в духе, то гнала прочь посетителей и, позевывая, отправлялась к себе, хрипло бормоча под нос что-то невразумительное. Иногда под гитару и арфу ей пели серенады. Они ей особенно приходились по вкусу. Она мечтала и уносилась мыслями куда-то далеко. Тогда тростниковую циновку никто не смел отдернуть. Хибара без дверей превращалась в неприступный дот. А когда кто-то из посетителей заболел дурной болезнью, то под пьяную лавочку эту маленькую женщину окрестили Сальюи[67] Такое занятное прозвище подходило к ней как нельзя лучше. Она не рассердилась, наоборот, ей даже понравилось это прозвище. Ей понравилось, что человеку можно изменить имя. Она еще не была сестрой милосердия, тогда она была попросту «заразной тварью», как несколько запоздало обзывали ее те, кто считали себя жертвами этой греховодницы и потому в отместку придумали ей ироническое прозвище. Она не докучала никому просьбами о встрече. Кто хотел — тот и приходил, причем не всегда с ней расплачивались за любовь даже продуктами.
Но как только год назад в Исла-Пои появился Кристобаль, Сальюи нашла в себе волю и мужество вычеркнуть из памяти прошлое и забыть обо всем. Его приезд разом перевернул ее жизнь, и как вычесывают вшей из головы, так Сальюи словно вычесала частым гребнем копошившиеся в ней воспоминания. Она будто заново родилась и обрела целомудрие. Все, что оставалось в ней женского, вдруг громко заговорило, и Сальюи почувствовала себя раненым, у которого нога уже ампутирована, а ему все еще мерещится, что она у него есть и нерасторжимо связана с изуродованным телом. Познав страшную глубину падения, Сальюи ощущала теперь, как воскресает забытая девичья честь, как, подобно почке, растет, набухает и раскрывается в ней желание новой жизни, как оно черпает силы в высоком очистительном чувстве, которое родилось в ней отнюдь не потому, что она была ослеплена.
Волна всеобщей мобилизации пригнала сюда облезлый грузовик с гончарен Сапукая. Бывшие повстанцы, сосланные в этот гарнизон, встретили его ликованием. Сальюи видела, с каким достоинством и самообладанием Кристобаль — высокий, поджарый, загорелый— молча вылез из машины и чуть приметной улыбкой приветствовал товарищей. Его спокойствие явилось неоспоримым доказательством той надписи, которая украшала кабину тряской колымаги и звучала издевкой над теми, кто захотел бы принять ее всерьез.
Поначалу Сальюи вместе с некоторыми другими подымала на смех Кристобаля Хару, но с каждым разом все внимательнее и пристальнее вглядывалась в волевой и все-таки нежный рот этого пришельца из Сапукая, в его зеленоватые глаза, которые, казалось, были подернуты плесенью. Она стала ходить за ним по пятам, но парень смотрел сквозь нее. Он, единственный из всего автовзвода, не сидел на корточках перед тростниковой циновкой. Сальюи поджидала его ночи напролет. Потом велела Сильвестре Акино и прочим поклонникам привести к ней Кристобаля. Но тот предпочитал после отбоя играть в карты в интендантском бараке или отправлялся в индейский поселок племени маской, где проводил долгие часы, беседуя с касиком Канайти на односложном жестком наречии. Кристобаль распалял Сальюи, сам того не подозревая. Свою досаду она вымещала на остальных, безотчетно негодовала на себя. Но так длилось недолго.
Нет, это было не презрение, а нечто худшее. Безразличие, абсолютное равнодушие. Сальюи толком не понимала, что это было. Она мучилась над разгадкой тайны, сетовала на собственное бессилие, на свою неспособность сломить гордеца, который смотрел на нее как на пустое место. Да и могла ли она понять мужчин, если знала их только по тем кратким встречам, когда они меньше всего похожи на людей? Сальюи сталкивалась лишь с самцами, одичавшими от тупой лагерной жизни и озверевшими в этой мертвой пустыне. Для нее все они были на одно лицо — сначала тени у ее хижины, потом безликие, грузные, обуреваемые похотью тела. Дары Сальюи были скромны. Она ненадолго утоляла их жажду, словно поила из фляжки озерной водой, оделяла суррогатом любви и вдобавок — венерической болезнью. Но постепенно, незаметно для чужого глаза Сальюи изменилась до неузнаваемости. Попранное женское достоинство пустило ростки. Больше никому не удавалось пройти за тростниковую циновку, тем не менее никто не верил в то, что Сальюи жаждет очищения. Она была беззащитна перед сплетней. Запятнанное прошлое цепко держало ее в клетке, как пойманного попугая. Прежде ее не осуждали, а теперь, когда она внутренне переродилась, стали чернить. Сальюи для всех осталась потаскушкой с озера, «птичкой» из поселка Пситакоз[68] который ей же и был обязан своим названием. Ее даже собирались выслать из гарнизона. Жители «верхнего поселка» всем весом своей безупречной репутации давили на обитателей легкомысленных домишек «нижнего». Комиссия радеющих о нравственности дам пожаловалась на Сальюи гарнизонному командованию, но тут вспыхнула война и началась эвакуация гражданского населения; только это спасло грешницу от высылки.
Военные машины увозили перепуганных женщин, бежавших от бомбежек в Пуэрто-Касадо, и скоро на базе осталась только та, которую вчера хотели выкинуть из поселка, как запаршивевшую кошку. Сальюи вспомнила обо всем этом, потому что в тот день, с началом засухи, на поля опустилось несметное множество бабочек — тысячи, миллионы. Они нахлынули, как волны прибоя, и в мгновение ока равнина покрылась золотистой трепещущей лавой. Даже зелень озера подернулась желтой пеленой. Духота была такая, что горло словно сжимало тисками. Ехавшие на грузовиках офицерские жены, поминутно кашляли и выплевывали набившихся в рот бабочек.
На следующее утро Сальюи пошла работать веще пустовавший госпиталь, куда потом, когда началась осада Бокерона, стало бесперебойно поступать размолотое снарядами пушечное мясо. Вскоре здесь появилась и Хуана Роса. Теперь в лагере было две женщины. Две юбки, утонувшие в пучине запорошенных пылью гимнастерок.
И вот она стоит на земляном валу; частые огненные вспышки освещают ее лицо. Беспорядочное движение, суматоха — автовзвод двинулся в путь. Кристобаль уезжает, она остается. Сальюи сделала несколько шагов и снова застыла на месте, борясь с собой. Потом, повернувшись спиной к озеру, опрометью побежала в госпиталь.
7
Хмурое небо как бы напряглось и ощерилось. Самолеты разрезали синеву, наполняя пространство ревом моторов и грохотом непрекращающихся взрывов. Три боливийских «юнкерса», в четком строю атакуя тыловую базу, сбрасывали бомбы. Земля исторгала из глубин огненные смерчи пыли, камней и металла. Эти внезапные извержения разметывали в разные стороны людей, грузовики и животных; в довершение воздушные пираты проносились на бреющем полете, прочесывая местность свинцовым гребнем пулеметных очередей. Шерстили так и эдак. Сверху холм Исла-Пои, очевидно, напоминал гигантский муравейник, развороченный и распотрошенный снарядами.