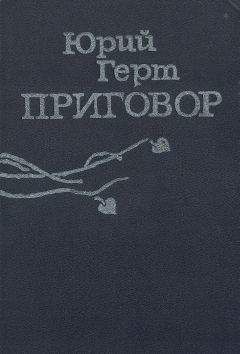— Видишь ли,— вяло возразила Татьяна,— Николаев как раз и пытался своего Глеба десяти заповедям обучать с помощью ремня...
— Значит — мало!.. Мало пытался!
Он стоял у окна, спиной к ней, раскинув руки, упершись в раму настежь распахнутого окна. Грудь его вздымалась и опадала. Он задыхался — от ярости, от боли, которая, пронизывая тело, не давала сделать полный глоток. Татьяна что-то нехотя ему возражала. Как будто далее в неистовстве ожесточения, которое накатило на Федорова, он сам не понимал, что городит чушь, что нельзя одолеть жестокость жестокостью же... И то, как Виктор сдергивал с Глеба брюки, чтобы показать поротую задницу,— это было у Федорова перед глазами...
9Позвонили. Федоров чертыхнулся и пошел открывать. По пути в прихожую он завернул в ванную, пустил из; крана струю холодной воды, смочил шею, затылок. И не стал вытирать полотенцем — капли воды, слегка освежая, стекали по спине с тупо и непрестанно нывшей левой лопаткой, по разгоряченной груди...
Не спрашивая, он открыл дверь. За нею стояла Галина Рыбальченко. Он молча пропустил ее, захлопнул дверь и пошел следом за девушкой. Никто не пришел из всего класса, пришла она... С чем?.. Да ни с чем, конечно.... И однако ее приход тронул его, шевельнул в душе какую-то нелепую, невозможную надежду. Все эти дни он видел ее в судебном зале,— когда только она готовилась, сдавала экзамены?.. И с каждым днем, оттеняя темные, с еле заметной рыжинкой волосы, лицо ее становилось бледнее, суше и запавшие глаза блестели все пронзительней, воспаленней...
Именно таким — воспаленным — был взгляд ее карих, почти черных глаз, когда она села за кухонный столик: сюда, на кухню, привел ее Федоров, и она, не ожидая, пока пригласят, сама опустилась на табурет, на место, где обычно сидел Виктор. И было что-то автоматическое, сомнамбулическое почти в том, как она пододвинула к себе чашку с налитым Татьяной чаем, как поднесла ее к губам, коснулась края, отпила глоток... Казалось, она не понимала, где она, что делает, все совершалось помимо ее внутреннего участия.
Она допила чашку до половины и поставила на блюдце. Посидела молча, словно наяву досматривая какой-то тайный свой сон. И, как во сне, тихо сказала:
— Алексей Макарович, сделайте что-нибудь... Вы все можете.
Она это без всякой надежды, едва раскрывая губы, сказала. Будто ветер за окном голой веткой прошелестел.
— Это теперь-то? — сказал Федоров. — Когда он сам во всем признался?..
— Вы все сможете, — повторила она. — Если захотите.
Татьяна ни словом не отозвалась на ее слова, только пододвинула печенье к Галине поближе, и в этом ее жесте, и ее ускользающем взгляде и вздохе было нечто от женщины, чутьем понимавшей другую.
— Их можно купить, — сказала Галина. — Да, да, всех! — Голос ее теперь ожил. Она строго, хотя и без вызова, посмотрела на Федорова, на Татьяну, снова на Федорова. — И судью, и всех, всех... Или уговорить. Или приказать... Или сделать так, чтобы они боялись!..
В ее интонации была такая смесь убежденности и отчаяния, что Федоров накрыл ее руку, лежавшую на столе, своей ладонью, сжал ее пальцы, длинные, розовые,— казалось, видно, как по ним пульсирует кровь.
— Галя, милая...
— Чего — «милая», «милая»!.. Я ведь знаю, Алексей Макарович, что говорю!..— Она выдернула руку из-под его ладони.— Думаете, эта балда Савушкин,— это он сам?.. Это я у него была, я и сказала!..
— Ты?.. И что же?.. Что ты сказала?..
Татьяна тоже смотрела на девушку во все глаза — не то с удивлением, не то с испугом.
— То и сказала... Сказала, что ему надо говорить, если он жить хочет!
Федоров и Татьяна переглянулись. Он встал, прошелся по кухне, припоминая Савушкина, его лицо, интонацию...
— Постой,— он поскреб темя, запустил в сивые, клоками свисавшие волосы пятерню.— Постой, это как...
— Да вот так!— сказала она.— Вот так!.. А вы думали, он по доброй воле?..
Он не стал расспрашивать, что стоит за ее словами. Но по выражению тонко, в ножевое лезвие стиснутых губ, почувствовал ничем не остановимую решимость.
— Не знаю,— покачал Федоров головой,— но думаю, у него имелись другие причины, у Савушкина... Во всяком случае, не только та, о которой ты...
— Ах, да какая разница!..— вспыхнула Галина.— Теперь?.. Когда этот... Этот... Этот...— Она слов не находила, вскочив и при этом уронив с грохотом табуретку.— Все взять — и уничтожить! Все, все!..— Она подняла табурет, села.— Татьяна Андреевна, хоть вы... Вы поговорите с вашим мужем!..— Она ухватила Татьяну за руку.— Еще не поздно... Кого-нибудь подключить, нажать...
Глаза ее перебегали, метались затравленно — от одного к другому, в них была мольба.
Федоров молчал. Он сидел за столом ссутулясь, обхватив голову.
— Вы не хотите?.. Отказываетесь, Алексей Макарович?..
Федоров молчал.
Теперь обе смотрели на него, взгляды их слились. Федоров чувствовал их на себе, эти взгляды. Так, наверное, в иные минуты с истовой верой в чудо люди смотрели на икону... Но Федоров не был чудотворцем.
Они сидели обе напротив, и уже не Галина — Таня держала в своей руке, гладила ее тонкую, смуглую руку в нежном пушке. Но Галина отпрянула от нее, отдернула руку, и снова в лице ее появилось жестокое, беспощадное выражение:
— Значит, честного разыгрываете?.. Даже сейчас?.. Когда завтра должно решиться — жить вашему сыну или не жить?..
Федоров молчал. Он потянулся к пачке сигарет, закурил — казалось, единственно для того, чтобы в клубах сиреневато-белесого дыма спрятать лицо.
Дым жег, выедал глаза, Федоров морщился. Шел одиннадцатый час, за стеной раскатисто бухал телевизор.
— Галя, — сказал он, глядя прямо перед собой, в стол, в голубую, выстилающую его поверхность пластмассу, — Галя, не забывай: он убил человека...
Он снова затянулся. Он не выговорил — выдавил из себя эти слова. Он их прохрипел — и горло у него тут же. сдавило, как от спазма. Он глотнул из чашки остывший, на донышке, черный от осевших чаинок чай.
— Все равно! — вскочила Галина.— Он хороший! Он лучше вас всех! Он честный! Вот!..— слезы кипели у нее на глазах, она задыхалась.— И я поеду! Куда он, туда и я! — Она бросилась к двери — юбка веером распустилась, хлестнула ее по ногам.
— Эх, Галя, — вздохнул Федоров.— Он ведь не декабрист. Да и времена теперь другие.
— Все равно!..
Она не выскочила — вылетела из квартиры, где все ее давило, душило. Живой дробью рассыпались но лестнице, растаяли где-то внизу ее каблучки...
10Самое тяжкое, самое страшное было — так вот, в затихшем доме, остаться с Татьяной наедине. Как если бы все между ними, женой и мужем, было сказано. И все мысли — прочитаны без слов. И ждать больше было нечего. И никто не мог разрушить этого могильного молчания, мертвенной тишины. Но еще страшнее было разойтись по своим углам. И они продолжали сидеть вдвоем, сознавая отлично, что круг замкнулся, и выхода изнутри, из пустоты, в которой пребывали оба,— нет.
Как-то раз в Москве, на выставке в Манеже, Федоров остановился перед картиной, на которой среди темных космических глубин плавал в невесомости человек в обтягивающем тело скафандре, в маске, сквозь которую виднелось его лицо. Все до мелочей было реально в этой картине, изображавшей выход космонавта в открытый космос, даже кончик троса в уголке полотна, готовый в любой миг сблизить человека в скафандре с космическим кораблем. Но чем дольше Федоров всматривался в картину, тем все больше как бы погружался в пространство, не имевшее ни верха, ни низа, ни горизонта или каких-то иных границ, вокруг простиралась одна лишь беспредельная пустота. И сейчас для Федорова все сместилось, как в этой картине. Не было неба, не было земли. Мир, как у Пикассо, распался на части. «Он честный!.. По крайней мере — честный!..» Так сказала эта девочка. Ему, Федорову. В прямой укор. А сам Виктор?.. Спокойно. Спокойно. Сейчас, когда он убил, каждое слово его отдает кровью. Ее запахом. От которого мутит. И красные пятна — маков цвет, красное с черным — застилают глаза. И все, что ни скажет он, это слова убийцы. И уже потому — ложь. Нет, не «уже потому...» А потому, что источник их — злоба, жажда мести. Жажда выместить на ком-нибудь... Но спокойно, спокойно. Разве раньше не говорил он... Только не так резко. Не так решительно. Не вонзая кинжал, не ворочая клинком в груди... Не в этом дело. И лжи, вранья достаточно было... В его, Федорова, жизни. А они по крайней мере — честны. До цинизма. До того, что их циничная честность выглядит судом над нами. Над нашим ханжеством. Нашим притворством... Они — как звери: не все понимают, но чуют, все чуют. И никаких объяснений не признают. Объяснять, прощать — на это они не способны... Сколько было Витьке — пять, семь?.. Когда у него завязалась одна история, и Таня, настороженная его поздними приходами домой, слишком частыми командировками, а пуще того — чем-то, что замечает в муже любая женщина, отдалилась, заледенела, и в доме наступила полярная стужа, полярная ночь... Притворство спасло обоих, спасло семью. Но вот она сидит перед ним, и дело-то прошлое, давнее, а при-знаться во всем начистоту — смелости не хватает. То есть честности — на их языке. А он — признался, хотя последствия несоизмеримы...