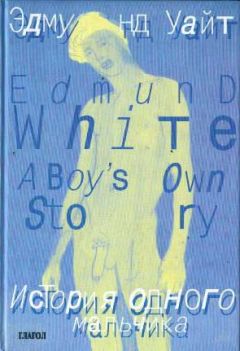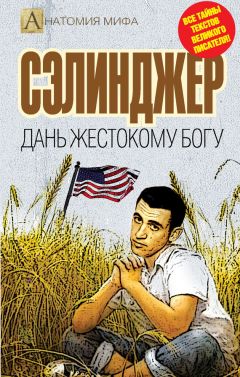Беседа за столом велась на философские темы. Аристотель был отвергнут в пользу Платона — выбор, который я вновь объяснил именно неправдоподобием Платоновых идей. Казалось, чем причудливее вера, тем она должна быть возвышенней, и поэтому тем более благородным поступком было бы ее принятие. Я не мог отделаться от мысли о том, что в глубине души Скотты — такие же американцы, как я, точно так же скептически относящиеся к идеям, и что, как и меня, их убеждает не строгость системы, а искренность порыва. Прекрасно. В силу снобистской непоследовательности их больше всего волновали как раз нелепые требования платоновского учения и платоническое христианство, как будто все, что может так легко приниматься на веру, должно быть — нет, не истинно, а аристократично, незаурядно. Касаясь в разговоре первородного греха, сотворения мира или дьявола, они возбуждались, щеки у них краснели, в глазах появлялся блеск, словно они заставляли себя поверить в этот чистейший вздор с помощью самогипноза. И чем более туманными и нелепыми были вещи, о которых они рассуждали (ангелы, воскрешение мертвых), тем чаще они употребляли такие слова, как „совершенно верно“, „несомненно“, „безусловно“ и „разумеется“, и каждый раз, когда они произносили подобное слово, глаза их расширялись от радости — ложь радовала их, они напоминали детей, визжащих от удовольствия, подбивая друг друга выдумывать все новые страшные подробности рассказа о привидениях.
После обеда мы с отцом Бёрком неожиданно остались наедине. Тима уложили спать, а Скотты весьма демонстративно отправились на прогулку. Священник оказался совсем не таким мрачным типом, каким я его себе представлял. Он был невысокий, общительный, носил золотой перстень с печаткой, то и дело прикладывался к своему бокалу бренди и вдыхал его пары с закрытыми глазами и вскинутыми бровями, точно слушал, как некий тенор тянет высокую ноту. Когда он говорил, в его речи слышался слабый акцент жителя побережья. Как и прочие принадлежащие к высшему обществу южане, он интересовался историей и вел себя так, словно водил тесную дружбу с покойными знаменитостями. За тыквенным пирогом зашел разговор о Римской республике, и отец Бёрк, подмигнув мне, сказал:
— А знаете, Юлий Цезарь был весьма привлекательным мужчиной. Он одерживал победы на каждом шагу, и не только над дамами.
У меня возникла дерзкая надежда на то, что, судя по его словам, Цезарь любил и мужчин, хотя дамы, возможно, противопоставлялись потаскухам. Если Бёрк имел в виду мужчин, доказывало ли его подмигивание, что Скотты поведали ему о волнующей меня проблеме гомосексуализма и что она отнюдь не привела его в ужас, ибо он был не чужд и мирских забот?
Прежде я не был знаком с этим специфическим нюансом христианства. Я встречал невежд-фундаменталистов, по крайней мере слышал, как они беснуются по радио. Немного выше поднялись по социальной лестнице провинциальные пресвитериане, унитарии и конгрегационалисты, которые вызывающую зевоту серьезность сочетали с полнейшим отсутствием милосердия. К счастью, они никого не стремились обращать в свою веру, поскольку защищали ее, как закрытый клуб, Ротари-ложу для сытых дельцов. Потом я столкнулся с католичеством Мерилин, но это был сплошь восторг да свечи со слезами согласно обету, что в моем воображении ассоциировалось с ариями Пуччини и названиями дорогих духов („Поэма экстаза“). Скотты, однако, были людьми серьезными. Они любили получать удовольствие. Были начитанными людьми. И стремились к духовной наживе; хотели, чтобы я принял христианство. А отец Бёрк все воспринимал невозмутимо — и рассудком, и сердцем. У него были маленькие черные глазки, коим он намеренно позволял затуманиваться лишь для того, чтобы взгляд мог внезапно делаться ясным. Когда я говорил, он сводил вместе кончики пальцев, принимался постукивать ими друг о друга и кисло улыбался, что должно было означать: „Все это я уже сто раз слышал. Продолжайте, пожалуйста“. В тот момент я вносил ясность в свою неприязнь к Богу, пытаясь привести припасенный заранее довод, чему изрядно мешало выпитое вино:
— Но если Бог такой всезнайка, Он должен был с самого начала предвидеть, как люди будут страдать, а если предвидел, тогда на самом деле у нас никогда не было выбора, и, если Он — сама доброта, тогда почему он позволил нам страдать, нет, подождите минутку…
Отец Бёрк перестал постукивать пальцами. С лица его исчезла улыбка, а глаза затуманились. Он позволил лицу сделаться старческим и усталым, как бы говоря, что виноват в этом я. Внезапно он устремил взгляд на меня, язык, затрепетав, вернул к жизни губы, и он сказал:
— Давайте оставим эту философию в стороне, — солидная порция иронии с намеком на то, что, если душа моя его интересует, то интеллект уже утомил, ибо душа может быть вечной, а интеллект слишком явно остается подростковым, — и перейдем к чему-нибудь более насущному. — Он прижал кончики пальцев ко лбу и спрятал лицо в ладонях. — Разве вам нечего мне рассказать? — спросил он загробным голосом из своего рукотворного шатра.
Однако для запугивания он выбрал не ту жертву. В конце концов я был буддистом. Я никогда не верил, разве что в мимолетных фантазиях, в сердечного, отзывчивого, чуткого христианского Бога, который слишком явно походил на средоточие всех людских желаний и страхов. Как личность, Бёрк заинтриговал меня сильнее, чем его божество. Я оценил то ощущение драмы, которое он хотел придать моему существованию, и тешил себя надеждой, что он считает меня, или по крайней мере некий важный, хотя и весьма отвлеченный, принцип в моей душе, достойным спасения.
Но при этом я также почувствовал, как в душе у меня нарастает жгучая потребность сохранить независимость. Разумеется, я реагировал на притягательность божественной гидравлики, этого мира пропащих или коронованных, загубленных или застывших в напряженном ожидании душ, этих шкивов и площадок, опускающихся и поднимающихся на огромной сцене, я сознавал, что мой взгляд на вещи кажется по сравнению со всем этим поверхностным, лишенным широты и субъективным. Однако очаровательной запутанности мифа не достаточно для того, чтобы добиться веры. У меня не было никаких оснований предполагать, будто в конечном счете действительность окажется по своей природе похожей на закулисный мир оперного театра.
На более эмоциональном уровне я питал отвращение ко всему авторитарному. Я мог стремиться в широко раскрытые, спасительные объятия некоего отца, но при этом ненавидел непрошеную отеческую заботу. Мало того, против нее я был настроен крайне враждебно.
— Да, конечно, — сказал я. — Я хожу к психиатру из-за противоречий, которые чувствую по поводу некоторой своей склонности к гомосексуализму.
При этих словах из-за рук отца Бёрка нерешительно выглянуло его лицо. Такой короткой и выразительной исповеди он не ожидал. Восстановив душевное равновесие, он решил оглушительно расхохотаться — смех столетий католицизма.
— Противоречий?! — воскликнул он, уже прослезившись от смеха. Потом, немного отдышавшись, священник негромко и бесстрастно добавил: — Но, видите ли, сын мой, гомосексуализм — это не только противоречие, которое требуется разрешить, — на этих словах он запнулся, точно они напомнили ему мерзкие кусочки отбросов, — гомосексуализм — это еще и грех.
Думаю, он понятия не имел, сколь слабо действует на меня слово „грех“. С тем же успехом он мог бы сказать: „Гомосексуализм — это бяка“.
— Но я испытываю влечение к мужчинам, — сказал я. Хотя нечто дерзкое во мне вынудило меня произнести эти слова, заговорив, я тотчас же осознал, что становлюсь посмешищем. Я превратился в химического блондина с женственными запястьями, а мой репсовый галстук — в кружевное жабо; я сделался гомиком, сидящим за роялем и с жеманной улыбкой исполняющим для мамочки и ее подруг по бридж-клубу концертные вариации на тему прошлогодних популярных мелодий. Бесполезно было отрицать свою виновность. Все, что я мог отстаивать — так это свое право выбирать между гибелью и изгнанием.
— Если вы испытываете какое-то чувство, совсем не обязательно в соответствии с этим чувством поступать, — сказал священник. — Американцы сдерживают свои чувства, как будто те разрешены только в исключительных случаях. — Он допил бренди. — Я, например, дал обет безбрачия и его соблюдаю.
— И чем же вы утешаетесь?
В ответ на мою дерзость он улыбнулся.
— Вы хотите спросить, занимаюсь ли я мастурбацией? Нет, не занимаюсь. Изредка бывают ночные поллюции.
Он поднес кончики пальцев к губам. Интересно, подумал я, хранят ли прихожанки, предлагающие священнику свои услуги в качестве экономок, эти затвердевшие льняные святыни.
Пастырская беседа не клеилась. У отца Бёрка испортилось настроение. Рассердили его главным образом Скотты, которые ввели его в заблуждение относительно моей готовности очертя голову броситься в лоно Матери-Церкви. Священник взглянул на свои карманные часы, после чего, заслонившись рукой, принялся орудовать зубочисткой — щепетильность, показавшаяся мне почти такой же омерзительной, как ночные поллюции.