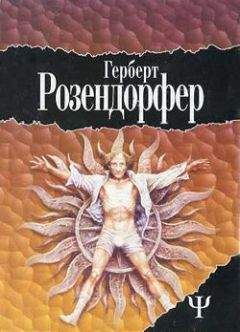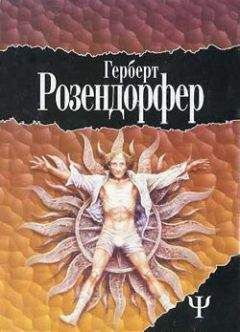– Бруно – существо загадочное, – почти мечтательно произнес Гюльденберг, – Чем больше я о нем думаю, тем меньше понимаю. Вы когда-нибудь видели, чтобы человек столько пил? И я не видел. Как это ему удается? Загадка. Другой бы на его месте давно отдал Богу душу. Когда Бруно спит? Это тоже никому не известно. Возможно, он спит на ходу, по пути от одного кабака к другому. Кто угодно скажет, что такую жизнь долго выдержать невозможно. А Бруно выдерживает. Факт, как говорится, налицо.
– Думаете, ему удастся пронести чемодан через границу?
– Это-то само собой, – заверил его Гюльденберг, – Главное, чтобы он успел приехать сюда раньше начальника. Вот если он не успеет, это действительно катастрофа.
Начальник вернулся в три часа. Бруно еще не было, однако никакой катастрофы не разразилось, потому что Курцман и так вернулся злой как черт. Швырнув на диван бумажный пакет с надписью «Хофмюллер, торты и пирожные», чего ом в отношении предметов кондитерского искусства никогда не позволял себе делать, Курцман выругался, плюхнулся в широкое засаленное кресло, рявкнул: «Официант!» – и выругался снова. На слова Гюльденберга о том, что Бруно еще нет, он почти не отреагировал, заметив лишь: «Ох уж мне этот Бруно», снова воззвал к официанту и, когда тот так и не явился, разорвал пакет из кондитерской чуть ли не в клочья и принялся одну за другой пожирать три порции знаменитого захеровского торта.
– Нет, какая скотина, – проворчал он, – эсэсовец недобитый!
– Ратхард? – догадался Гюльденберг.
– Конечно Ратхард, кто же еще!
– К/л или о/и? – вполне профессионально осведомился Кессель.
– Кличка, – сообщил Курцман – Недолго ему осталось ее носить. Открытое имя – Майер. Одно слово – эсэсовец.
– Опять не явился? – спросил Гюльденберг.
– Опять! – со злостью подтвердил Курцман. – В июне он тоже не явился на встречу. Тогда он заявил, что у него, видите ли, был грипп. В июне! Ну скажите, кто болеет гриппом в июне?
– Да, но сейчас декабрь, – начал Кессель, – сейчас как раз…
– Ничего не «как раз»! – оборвал его Курцман – Еще весной он подложил такую же свинью Брудеру (Брудер был предшественником Кесселя в «Ансамбле». В сентябре его перевели в Пуллах; Кессель знал о нем лишь по рассказам).
– Он же знает, – сказал Гюльденберг, – как мы его ценим. Кроме того, он работает на нас бесплатно.
– Бесплатно или не бесплатно, – закричал Курцман, – но нам давно пора от него избавиться!
Ратхард, он же Майер – о нем Кессель тоже знал по рассказам, – служил во время войны в СС, однако после войны никто почему-то даже не поинтересовался, чем он занимался при нацистах. В 1945 году он перебрался в Австрию, решив без хлопот отсидеться пару лет. В Зальцбурге ему удалось открыть мебельный салон, и он остался там навсегда. Однако его любовь к «фюреру» и всему, что с ним связано, с годами нисколько не уменьшилась.
Его мебельная торговля процветала, и он мог позволить себе жертвовать крупные суммы в кассу то одной, то другой правой партии как в Австрии, так и в Германии. Для уяснения его политических убеждений достаточно сказать, что баварская ХСС была для него слишком левой. Ей он подарков не делал.
Ратхард выписывал все фашистские и прочие ультраправые газетенки, но главной своей целью считал тем не менее работу на БНД. Контакт с секретной службой послевоенной Германии он завязал еще в начале пятидесятых, сам предложив ей свои услуги. Услуги эти в Пуллахе сразу же оценили, потому что, во-первых, оказывались они бесплатно – Ратхард-Майер трудился, так сказать, исключительно ради идеи, – а во-вторых, его огромные мебелевозы были почти идеальным средством для перевозки писем, посылок, раций и даже людей через тогда еще контролируемые союзниками границы оккупационных зон.
Однако по-настоящему звезда Ратхарда взошла после 1955 года, когда русские открыли в Зальцбурге торгпредство. То, что торговля интересовала русских в последнюю очередь, было видно слепому. Дураку было ясно, чем занимается в этом небольшом городе такая толпа торгпредов (временами число персонала там доходило до сотни человек). Однако прикрытие есть прикрытие, и русским время от времени приходилось делать вид, что они занимаются торговлей. Они проводили выставки искусства народов СССР или достижений хрущевского кукурузоводства и раз в два месяца устраивали в торгпредстве коктейль.
Майера-Ратхарда. прошлое которого либо не было известно русским, либо их не интересовало, тоже приглашали на эти коктейли, потому что он был членом германо-австрийского торгового клуба, а какое-то время даже его председателем. Майеру-Ратхарду импонировали там не только отличная водка и замечательное красное шампанское, которые просто рекой лились на таких мероприятиях, но и – как иногда могут быть сходны взгляды, казалось бы, самых завзятых идеологических противников! – строгие порядки в торгпредстве, галстуки и уставные прически у всех, даже у молодых русских служащих, а главное – уважение к старшим, которое Майер-Ратхард очень ценил, но давно уже почти нигде не встречал в окружавшем его мире. Вот как иногда сближаются друг с другом самые противоположные взгляды, причем не только в случае с Майером-Ратхардом, вот какие неисповедимые пути выбирают – совсем как Колумб, отправившийся искать Индию не на Восток, а на Запад. Для Майера-Ратхарда работа на БНД и коктейли в русском торгпредстве были единственными светлыми островками порядка в эту мрачную новую эпоху, представлявшуюся ему сплошным бардаком. То, что своими донесениями и отчетами о жизни торгпредства он как бы продает один остров другому, ему, видимо, просто не приходило в голову – даже после того, как он познакомился с одним из работников торгпредства и, можно сказать, по-настоящему с ним подружился. Фамилия его была Сперанский, он был помощником торгпреда и часто бывал в гостях у своего немецкого друга – это было уже в начале шестидесятых. Майер-Ратхард угощал его «Кальтереровской горькой» и грушевым ликером Вильямса, которые также лились рекой, только уже у него в доме. Сперанскому он явно был симпатичен, об остальном же судить было трудно – может быть, ему приходилось скрывать от коллег свои контакты с немцем, а может быть, он тоже продавал один остров другому, не испытывая при этом особых угрызений совести. Второе было, конечно, вероятнее, так что внутренняя жизнь двух старых фронтовиков из армии красных и синих протекала в счастливом единении обеих частей известного девиза: «дружба дружбой, а служба службой», причем, скорее, даже не в русском, а в немецком его варианте: «служба службой, а шнапс шнапсом».
При всей своей тупости Майер-Ратхард был все же достаточно умен (или достаточно осторожен), чтобы не вывешивать, так сказать, на видном месте портрет Гитлера в золоченой раме. В гостиной у него висели Бисмарк, фельдмаршал Роммель и Фридрих Великий, фотография линкора «Шарнгорст» и тому подобные вещи, но больше всего было фотографий самого хозяина в период прохождения им действительной службы. На самом же видном месте висел писанный маслом портрет, сделанный за большие деньги с любительской фотографии: Майер-Ратхард в полной эсэсовской форме стоит на холме, опираясь одной ногой на сваленное снарядом дерево; в руках у него бинокль, но он смотрит вдаль острым невооруженным глазом. Вдали видны догорающая деревня и подбитый русский танк. Сам Майер выглядит настоящим полководцем, хотя он был тогда всего лишь штурмфюрером, то есть в лейтенантском чине. При взгляде на эту картину невольно возникал вопрос: как же Гитлер ухитрился проиграть войну?
Увидев эту картину в свой первый визит к Майеру, Сперанский долго ее рассматривал, так что Майер даже испугался, подумав, что зря перевесил ее куда-нибудь подальше. Но Сперанский сказал лишь (он неплохо говорил по-немецки):
– Хорошая картина. Это вы?
– Да, – сказал Майер – Могилев, сорок четвертый год.
Сперанский был немного моложе Майера, ему было тогда лет пятьдесят пять. Он тоже был на фронте. Он стал вспоминать и наконец пришел к выводу, что в это самое время тоже был там, под Могилевом – только, разумеется, по другую сторону фронта. Оба прослезились и начали'вспоминать те бои, каждый со своей стороны, быстро перешли на «ты» и стали звать друг друга «камрад». Когда жена Майера ушла спать – она была местная, из Зальцбурга, он женился на ней, когда окончательно решил здесь остаться, – он достал свои старые военные альбомы, сдвинул в сторону бутылки и рюмки и разложил их на столе. Сперанский рассматривал фотографии с большим интересом и знанием дела, и настроение у обоих стало совсем душевным. В следующий раз, пообещал Сперанский своему камраду, он привезет ему свои фотографии.
Уходя – это было уже поздно ночью, – Сперанский крепко обнял Майера на прощанье:
– Гут… гут, – проговорил он, – мы тогда стреляли друг в друга. Хорошо, что мы промахнулись!