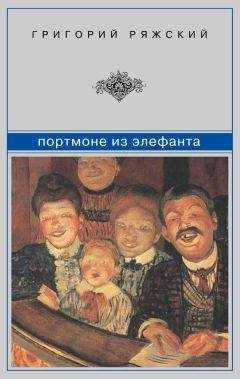Очнулся я от охватившего меня столбняка, только когда ощутил чувствительный тычок сбоку в подреберье.
— Ну чего, толстячок, — негромко спросил меня неприметный мужик с веселыми и недобрыми глазами и коротко кивнул в сторону девушки. — Нравится?
Девушка как будто не замечала ни адресованного мне хамского вопроса, ни моей невразумительной и растерянной реакции на него — она продолжала внимательно наблюдать за разворачивающейся между незнакомцем и мной сценой. Внезапно до меня дошло, что это неспроста: там же, в правом подреберье, куда воткнулся мужиков локоть, зародилось сомнение, тут же, впрочем, перешедшее в уверенность, что существует некая неведомая мне связь между мужиком и белокурой незнакомкой. Я не успел сказать, что Ирка была чистейшей воды блондинкой? Прозрачнейшей просто воды…
— Вы меня? — спросил я дядьку, как мне казалось, удивленно, но уже знал, что вряд ли мне удастся его обмануть, дядька видел меня насквозь: и растерянность видел, и всю беду мою заодно по мужской линии.
— Да тебя, тебя, кого ж еще-то? — тоже немного удивился моему удивлению неизвестный.
И только тогда я обнаружил, что в магазине, кроме нас, не было больше никого. Не считая прелестной девушки, разумеется. Я сглотнул. Но слюна получилась гуще, чем всегда, и поэтому застыла на полпути к пищеводу, заткнув горло вязким комком.
— Чего? — на всякий случай переспросил я, уточняя предмет интереса мужика, хотя был абсолютно уверен, что вопрос его относился к загадочной незнакомке, но не мог все равно связать отдельные части происходящего в единое целое. — Чего нравится?
Глаза у мужика перестали быть веселыми, а остались просто недобрыми, потому что его начала раздражать такая моя непонятливость.
— Она, говорю, нравится? — Он подошел к девушке и легонько ущипнул ее за бедро. — Хороша, говорю, дырка-то?
Девушка и на этот раз сохранила полное спокойствие, и даже улыбка не исчезла с ее лица, как будто имевшее место непотребство являлось для нее делом привычным, а вовсе не позорным и не бесстыдным. Я снова открыл было рот, чтобы протестовать против услышанной чудовищной гадости, не имевшей отношения ни ко мне, ни к ней, но слова, которые я еще не успел родить, уже успели упереться в слюновой комок, что перекрыл дыхалку еще раньше, и по этой причине так и не вылетели из гортани навстречу хаму в человеческом обличье.
— Значит, смотри сюда, брат, — как ни в чем не бывало продолжил прерванный контакт мой визави, не дожидаясь ответа по существу предмета обсуждения. — Платишь… платишь мне… — Он упер глаза в потолок, прикидывая или же вспоминая что-то: — …тыщу восемьсот платишь и забираешь. И она твоя тогда, идет? — Он между делом глянул на девушку, но она вновь не удивилась его словам, а восприняла их самым должным образом и даже, как мне показалось, слегка кивнула, выражая полное согласие таким поворотом событий. — Она глухонемая, понимаешь ли, но зато хороша очень, лучше других, я-то уж знаю, можешь поверить. — Он нехорошо ухмыльнулся. — А что не говорит, так зато понятливая и сделает тебе все, как сам захочешь, разговору нет, другие не жаловались, а для тебя, я вижу сразу, особенно сгодится, потому что научишься с ней куда и как, а она поможет, если чего. — Он повернулся к ней и посмотрел на часы. — Ты погоди чуток, с парнем тебя сейчас отправлю. — Он вновь развернулся ко мне и по-отечески на этот раз поинтересовался: — Звать-то как?
— Ильдар, — растерянно ответил я, разом растеряв запал негодования от неожиданно человеческой интонации внутри идиотской ситуации, и к огромному для самого себя удивлению внезапно добавил: — Бублик.
На этот раз удовлетворенно хохотнул дядька:
— Ну вот видишь, как складно выходит все: ты Бублик, а она Ирка — Бублику твоему дырка. — Он успокоительно положил мне руку на плечо, заметив мое смущение и мой быстрый взгляд туда, где находилась незнакомая пока еще девушка по имени Ирина. — Да ты не тушуйся, Ильдарчик, она по губам плохо читает, если только совсем уж рядом, то поймет, но любому слову не возразит, не дрейфь, ей деваться некуда, так что смелей, пацан, плати и веди куда надо. Есть хата-то?
— Есть, — ответил я, снова поймав себя на том, что уже совсем не оскорбляюсь этому разнузданному панибратству хозяина глухонемой девушки.
Тогда мужик подвел черту под случайным знакомством и протянул ладонь:
— Давай бабки, брат, а то мне пора уже вопрос закрывать.
Денег папа оставил две тысячи, и все они были со мной. После расчета оставалось двести рублей, и на что нам с Мараткой жить еще целый месяц, я не имел ни малейшего представления. Но в тот момент я об этом и думать не помышлял, потому что пока мы с Иркой добирались до Реутова, пульс мой колошматил, как отбойный молоток, опережая сердце и дыхание, а ноги перепутывались с мыслями, и как тем, так и другим от этого было неспокойно и страшновато. На всем протяжении пути до дому я старался на Ирку не смотреть — стыдно было невозможно, мне все время казалось, что краска стыда заливает мое лицо, все без остатка, и что каждый вокруг знает, куда и зачем я еду с моей девушкой, за которую заплатил родительскими деньгами, оставленными мне, старшему сыну, на еду, хозяйство и присмотр за младшим братом. Ну а она, само собой, молчала, поскольку все равно говорить не могла, и мне от этого действительно было немного легче, прав мужик тот оказался — не так неловко, как было бы с болтливой какой-нибудь другой, которая несла бы всю дорогу что-нибудь гадкое и выдала бы ненароком мои намерения пассажирам реутовского электропоезда со всеми остановками. Нет, она была не такая, моя Ирка, моя первая женщина: она была другой совсем, она была вовсе из другой материи, где не было места пошлости и хамству, куда не прилипала обычная человеческая грязь, хотя и сама она тоже была за деньги — я сразу это про нее понял и не ошибся.
Маратки дома не было, и это помогло мне несколько унять дрожь в коленях и перестук изнутри. Я знал, где у отца хранится жидкая заначка, и сделал оттуда большой глоток. Ирке предлагать сделать то же самое мне в голову не пришло — с ней-то как раз, за исключением речи и слуха, все было в порядке, или же просто она умела так владеть собой. После глотка меня резко перекосило, но через пару минут немного повело и слегка отпустило. Правда, во рту оставался резкий водочный дух, как будто кто-то нечистоплотный и неприятный выдыхал им мне в полость рта изнутри. Но затем и он постепенно исчез, растворившись в общем полупьяном дурмане, и я на мгновение представил себе нашу химичку Раису Валерьевну, вдыхающую воздушный настой из моего рта в свой узкогубый влажный рот, чтобы отобрать нужную пробу газообразных фракций для проведения анализа спиртовых испарений.
«При чем здесь Раиса Валерьевна, — подумал я тогда, сбиваясь с нетвердой мысли, — когда меня ждет Ирка?»
Я зашел в свою комнату, где оставил ее, и запер за собой дверь. А потом… А потом у меня ничего не вышло. Ирка улыбнулась, но ничего не сказала, конечно же. Она просто постаралась быть нежной, насколько возможно, и утешительно улыбнулась своей тихой улыбкой. Спешить не будем, Ильдарчик, казалось, говорила она, у нас все получится, ведь я здесь затем, чтобы тебе было хорошо со мной, и вот увидишь — ты настоящий мужчина, и всякие там бублики — это не про тебя. И тогда мне перестало быть страшно и неловко за свой позор, и я снова потянулся к ней, прикоснулся к ее тонкой коже, и снова мне почудилось, что вся она из воздуха соткана, из особой какой-то, удивительно необычной плоти: не из привычного грубого телесного вещества, не из потных и надушенных человеческих молекул — из иного строительного материала, податливого и трепетного на ощупь. И в этот момент отомкнулся внутри меня затейливый замочек, выскочил откуда неизвестный доселе ключик и точно к замочку этому подошел, щелкнул нужной пружинкой и распахнул заветную дверцу, за которой было все уже остальное спрятано, все, все, что тоже разом на меня обрушилось…
А потом я лежал с ней рядом, лицом к лицу, и целовал ее розовые губы, так непохожие на Раисы Валерьевнины, что бы она там себе ни думала и как бы ни пыталась оградить меня от всеобщего равнодушия в школе, так как теперь я ни в какой защите не нуждался: ни с ее химической стороны, ни даже в собственной, от самого себя, маминого в прошлом румяного бублика, а отныне полноценного мужчины, распираемого от гордости и обилия мужского белка, накопившегося в организме к этому переломному в жизни моменту. А еще я шептал ей разные слова, но не в лицо шептал, а в ухо, зная, что все равно она их не слышит, потому что не видит моих губ и не может мне поэтому ничего ответить, но и не только по этой причине. Но я и так знал, я был уверен, что если смогла, то произнесла бы слова, похожие на мои, с таким же чувственным ответным теплом и не откалькулированной мужиком нежностью, потому что мужик тот сам, наверное, ничего о нежности ее не знал, а то взял бы денег больше, и тогда бы на жизнь, оставшуюся до отца и мамы, вовсе никаких двухсот рублей не было бы, а еще неизвестно, чего Маратка скажет на это, мой независимый младший брат, когда узнает про то, что вышло у нас с Иркой…