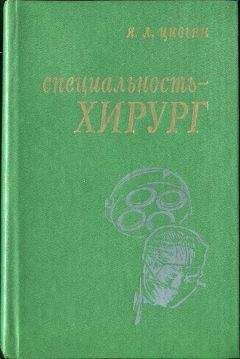При осмотре выяснилось, что из-под нижнего края корсета частой каплей истекает чуть розоватая прозрачная жидкость. Когда был разрезан гипсовый корсет и удалены слои марли, обнажилась послеоперационная рана. Она была обычной: линия разреза с наложенными и завязанными хирургическим узлом частыми тонкими нитяными швами. Все как обычно. Ни припухлости. Ни покраснения. Ни отека тканей. Вот только в нижнем отделе раны между швами нет-нет да и появится капелька светлой розоватой прозрачной жидкости. Появится. Скатится вниз. И все. А за ней следующая. И еще одна. И другая. И третья…
Тщательнейшим образом я обработал кожу в области послеоперационной раны – сделал туалет раны. Так мы называем эту процедуру. И закрыл область послеоперационного разреза стерильными марлевыми компрессами, а поверх этих марлевых салфеток уложил ватно-марлевую повязку. Целость корсета восстановили гипсовыми бинтами…
Я решил подождать… Решил подождать, несмотря на то, что был уверен в случившемся. Надеялся на чудо? Нет. Что чудес в нашей работе не бывает, я уже давно и хорошо усвоил. Почему же я решил ждать? Надеялся на самопроизвольное закрытие дефекта в оболочках мозга и прекращение ликворреи – истечения спинномозговой жидкости. Надеялся без реальной надежды на успех. Из литературы я знал, что те немногие хирурги, которые сталкивались с подобными осложнениями, отмечали упорное их течение. Эти осложнения часто не поддавались даже наиболее энергичному лечению – оперативному, и после повторных операций вновь продолжалось истечение жидкости, что в конечном итоге приводило к воспалению спинномозговых оболочек – менингиту и гибели пациентов. И все же повторная операция представлялась для Кириллова настолько сложной и трудной, что я решил подождать.
Вот прошли первые сутки. Повязка была сухой. Вторые сутки. Повязка продолжала оставаться сухой. И на третьи. И на четвертые… И на восьмые. А на девятые она вновь обильно промокла светлой жидкостью. Больше ждать было нельзя, нужно было принимать меры.
Следовало попытаться повторным вмешательством герметизировать оболочечный мешок, окружающий спинной мозг.
С нелегкой душой я решился на это. Пациента доставили в операционную. Ни я не сказал ему перед этим ни слова, ни он не спросил меня ни о чем.
Вот опять его тело распростерто на операционном столе. Кожные покровы вокруг раны обработаны настойкой йода. Операционное поле обложено стерильным бельем. Разведены края раны, которые еще не успели срастись достаточно прочным рубцом. Ткани белесоваты, обескровлены, как будто они тщательно промыты проточной водой. Так оно и есть. Действительно, они «промывались» спинномозговой жидкостью, столь длительно истекавшей из поврежденных оболочек мозга. Непривычные, холодные, кажущиеся безжизненными, неспособными к заживлению ткани. Слой за слоем я разделяю их. Вот, наконец, и твердая мозговая оболочка – наружная оболочка спинного мозга. Она шероховатая, тусклая, мутная. Мне удается обнажить ее в месте бывшего повреждения. Вот оно. Угадываю его по капле просачивающейся жидкости. Она появляется медленно, лениво, как бы нехотя. Ничтожная по величине щель в оболочках мозга, от которой зависит судьба человека… Эта щель находится у самого края костного дефекта, образованного во время первой операции. Стараюсь как можно шире выделить твердую мозговую оболочку из-под края дефекта. Мне удается высвободить край ее шириной в один миллиметр. Этого уже достаточно, чтобы тонкой иглой прошить твердую мозговую оболочку по краю дефекта, что я и делаю. Вот наложен один шов… Вот второй… Третий… Шестой. Часть швов выходит за края дефекта, чтобы более надежно ушить его. Не завязывая швов, поверх дефекта накладываю тонкую полоску мышцы, взятой тут же, в ране, и поверх нее туго затягиваю все шесть швов. Долго не ухожу из раны. Жду и наблюдаю. Наблюдаю за раной и жду. Жду, не появится ли капля светлой жидкости по линии наложенных швов. Не подтечет ли эта жидкость из-под мышечного тампона. Вяло пульсируют оболочки мозга. Синхронно с пульсовой волной мой взгляд следует по поверхности обнаженной оболочки. Вроде все сухо. А ушивать рану боюсь. Ведь и после первой операции я уходил из сухой раны…
Наконец решился: ушил рану послойно. Наложил повязку. Больного увезли на каталке в палату.
Тяжкие мысли обуревали меня. Беспокоился я за пациента, за исход его лечения, за его судьбу.
Я прекрасно отдавал себе отчет в случившемся, отлично понимал, что значит для Кириллова возникшее осложнение, к чему оно может привести. Тут дело даже не в повторной операции, а в том, что Кириллов должен был вновь находиться в постели без корсета, в условиях недостаточно надежной иммобилизации – онеподвиживания позвоночника – до надежного, прочного заживления раны. Выдержит ли он этот длительный постельный режим, не возникнут ли сопутствующие осложнения в виде воспаления легких или пролежней? Заживет ли рана? Не начнет ли вновь истекать спинномозговая жидкость? Все это вполне реально. И тогда ослабленный организм пациента может не выдержать тяжкого испытания.
В какой-то степени мои опасения оправдались. Послеоперационный период после второй операции протекал очень тяжело. Оттого, что Кириллов должен был очень длительное время находиться в одном положении, спереди на грудной клетке образовалась большая рана: от постоянного давления омертвела кожа. Это заставило меня поднять пациента на ноги раньше допустимого для его состояния срока и в недостаточном по величине корсете: рана на грудной клетке не позволяла наложить корсет достаточной величины. Я вынужден был пойти на заведомую потерю достигнутой степени исправления деформации позвоночника во имя предупреждения более тяжелых, может быть даже непоправимых, осложнений, могущих возникнуть у Кириллова, если бы он оставался в постели.
Медленно и вяло заживала рана. Общее состояние больного тоже не радовало. Особенно беспокоило меня его подавленное настроение. Он сник. Исчез свойственный ему оптимизм. Он стал безучастен и безразличен ко всему происходящему…
Долго и трудно поправлялся Кириллов. Постепенно улучшилось общее состояние. Он мог стоять около постели уже более десяти минут. Мог сделать несколько шагов. Стал лучше есть. Эти незначительные успехи радовали меня, вселяли какую-то надежду на вероятность благополучного исхода. Шла неделя за неделей.
Изменения к лучшему наступали очень медленно. Рана на груди значительно уменьшилась в размерах, но все еще не заживала полностью. Прошло еще несколько недель. Кириллов стал выходить из палаты, почти час мог находиться на ногах, у него появился какой-то интерес к окружающему – это уже был серьезный показатель улучшения в его состоянии.
Из-за раны на груди для него был сделан ажурный корсет, позволявший наблюдать за ходом заживления и делать перевязки.
В этом корсете Кириллов был выписан домой, куда он последнее время уж очень рвался.
Потом он приезжал ко мне еще раз. Его общее состояние улучшилось. Он окреп. На его лице появлялась улыбка. Туловище Кириллова не стало прямым, как у других аналогичных пациентов. Осталась сутулость – след бывшего горба – как следствие возникшего осложнения и следовавших за ним событий.
Мне очень хотелось помочь этому пациенту, но обстоятельства оказались сильнее. Я повторяю, что, к счастью, у Кириллова дело не дошло до трагедии Глеба, но он тоже не дает мне покоя…
Но ведь судьба Глеба – это исключение, это дикий случай, это несчастье! Счастливых судеб гораздо больше…
Римма Ахметханова, когда я впервые увидел ее, показалась мне старой женщиной, подходящей к финалу своей долгой жизни. Изможденное страданиями лицо и обезображенное болезнью тело. Она была не лучше Абдуллы. Ее подбородок касался передней стенки живота, так сильно было искорежено туловище. Кончики пальцев рук почти доставали до пола. И колоссальный, большущий горб.
А ей было-то всего от роду тридцать четыре года. Мать трех детей. Замужняя женщина. И такое несчастье.
И как же она расцвела после операции. Какой милой и привлекательной стала эта помолодевшая вдруг женщина, приобретшая обычный человеческий облик.
Да разве она одна? Ведь таких больных десятки. И все они довольны. Им стало лучше, легче жить на свете. А многие и счастливы. Операция дала им возможность вновь стать полноценными людьми, сохранить или обрести семью. Да просто стать похожими на обычных людей, ты понимаешь, читатель, обычных людей!
И Глеб!.. На всю мою жизнь он останется болью моей души.
Ну, а Абдулла?
У Абдуллы все хорошо. Он живет в родном селении. Он больше не стремится к уединению. У него семья. Он работает. Человек неискушенный никогда не узнает, что он был уродом.
Он обычный человек! Ох, как много значит для людей, необычных физически, стать обычными. Он доволен своей жизнью. И я рад за него.