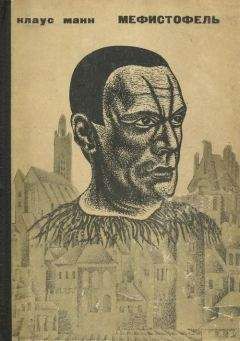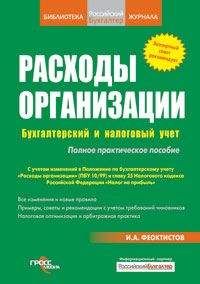Власть, которую ты любил, свирепа. Она не терпит критики, и кто противится, того она уничтожает. Тебя уничтожат, мальчик, уничтожат боги, на которых ты так истово молился. Ты упадешь как подкошенный, из маленькой раны вытечет немного крови в траву, и губы побелеют, станут белыми-белыми, как твой сияющий лоб.
И никто не оплачет твою погибель, твой конец – конец такой великой, такой пылкой, так горько обманутой надежды. И кому тебя оплакивать? Ты ведь почти всегда был один. Матери своей ты не писал годами, она вышла замуж за чужого мужчину, ведь отец твой умер, погиб в мировую войну. Кому же по тебе плакать? Кому рыдать над понапрасну растраченной юностью? Так закроем же тебе глаза, чтобы им не оставаться открытыми, не смотреть в небеса с молчаливой мольбой, с горьким упреком. Может быть, смерть смирила тебя, бедное дитя? Может быть, ты стал добрее, чем был во время суровой своей жизни? И может быть, ты простишь нам – твоим врагам, – что мы, только мы склоняемся над твоим трупом.
Ибо судьба твоя сбылась, все шло быстро. Ты накликал свой конец, ты его призвал. Зачем тебе было собирать вокруг себя других юношей, еще моложе, еще наивнее, чем ты в свое время, и играть с ними в заговорщиков? Против кого? Против самого фюрера? Или против одного из его сатрапов? Вы думали, что все должно быть «совсем по-другому» – ведь вот о чем вы всегда мечтали! Национальная революция – так вы думали – подлинная, настоящая, бескомпромиссная революция! Лишь она, она одна все перевернет, все спасет. Вас так подло обманули! И разве не отправили вы письмо за границу одному эмигранту, который когда-то был другом фюрера, а потом в нем разочаровался?
И вот однажды утром в твою комнату явились парни в мундирах. Ты уже и раньше имел с ними дело, это были старью знакомые, и они втолкнули тебя в машину, она ждала внизу. Ты недолго сопротивлялся. Тебя отвезли на несколько километров от города, в лесок. Утро было свежее, ты продрог, но никто из твоих старых друзей не дал тебе пледа или пальто. Машина остановилась, тебе приказали пройтись несколько шагов. Ты сделал эти несколько шагов. Ты еще раз вдохнул запах травы, утренний ветерок коснулся твоего лба. Ты держался прямо. Может быть, люди в машине испугались бы, увидя твое несказанно высокомерное лицо; но они не видели твоего лица, они видели только твою спину. Потом раздался выстрел.
Государственному театру, где ты не выступал уже в течение недель, было сообщено, что ты погиб в автомобильной катастрофе. Сообщение это приняли сдержанно, никто не был склонен верить в его достоверность. Фрейлейн Линденталь сказала:
– Ужасно! Такой молодой! Правда, мне он никогда особенно не нравился. Уж очень беспокойный. Вы не находите, Хендрик? И до того злые глаза…
На этот раз Хендрик не ответил своей влиятельной подруге. Он боялся представить себе лицо молодого Ганса Микласа. Но оно ему явилось – хотел он того или нет. Вот оно стоит перед ним совершенно отчетливо в полутьме коридора. Глаза закрыты, на лбу сиянье. Упрямо выдвинутые губы шевелятся. Что же они говорят? Хендрик отвернулся и побежал, спасаясь в суете дня, чтобы не слышать, не слышать того, что говорит этот строгий, чудесно преображенный концом посланец смерти.
IX
По разным городам, по разным странам…
Месяцы проходят, миновал год 1933-й, великий год, если верить журналистам, чьи мнения вдохновлены министерством пропаганды. Год исполнения желаний, год триумфа, победы; год, когда пробудилась немецкая нация, чтобы во славе обрести себя и своего фюрера.
И радостный, блистательный год для артиста Хефгена – это уж точно. Он начался с неприятностей, но кончился весьма благополучно. Находчивый Хендрик вступает в год 1934-й уверенно и как нельзя более бодро. Он уверен в благосклонности власть имущих. Он может положиться на милость премьер-министра. Великий человек распростер над ним свою широкую охраняющую длань. Он считает Хефгена – Мефистофеля чем-то вроде придворного шута и блистательного плута, забавной игрушкой. Артисту давным-давно простили его подозрительное прошлое – шалость художника. Негритянку с плеткой он сбыл с рук. Хефген будет играть много-много прекрасных ролей. Он может сниматься в кино и загребать большие деньги. Премьер-министр его часто принимает. Почти так же непринужденно, как он, бывало, входил в кабинет директора Шмица или фрейлейн Бернгард, входит комедиант в рабочие помещения или в домашние покои генерала.
– Вот ты меня и лицезришь.
Я убежден, поладить мы сумеем
И сообща твою тоску рассеем, —
так дерзкой цитатой из «Фауста» приветствует Хендрик всемогущего. Всемогущий не знает более приятного отдыха после своих кровавых и блистательных забот, чем позабавиться придворным шутом. У фрейлейн Линденталь, можно сказать, почти есть повод для ревности. Но она ведь добродушная, да и сама питает слабость к Хендрику Хефгену. Какой вес, какой ореол придает ему в широких кругах всем известная, повсюду обсуждаемая дружба с грозным толстяком!
Он, может быть, создаст авторитет
Среди детей и дурней недалеких… —
так нередко думалось Хендрику, когда коллеги и писатели, первые дамы нового режима и даже политики осыпали его льстивыми любезностями. Так ли уж нужно ему «создать авторитет» среди немецких националистов, так ли уж необходимо сахарное подобострастие типов вроде месье Пьера Ларю? Такое ли уж наслаждение выслушивать тонкие, изысканные комплименты доктора Ирига, светские любезности господина Мюллера-Андреа? В беседах со старинным другом Отто Ульрихсом он высказывается обо всей этой «проклятой банде» презрительно. Но не сладки ли и впрямь его слуху эти заверения в преданности, эти проявления внимания? И так ли уж дурно шампанское за столом Пьера Ларю в гостинице «Эспланада», поглощаемое в прекрасном кругу декоративно разодетых юношей-эсэсовцев?
У Хендрика объявилось бесчисленное множество друзей, среди них и потешные фигуры. Например, поэт Пельц, чьей взыскательной, неясной, мрачной и пленяющей лирикой до экстаза упивались молодые люди, по большей части теперь находившиеся в изгнании. Беньямин Пельц, маленький коренастый человек с мягкими голубыми, холодными глазами, обрюзгшими щеками и большим, свирепо сладострастным ртом, объяснял в интимном разговоре, что он любит национал-социализм, поскольку он начисто уничтожит цивилизацию, механический порядок которой стал невыносим. А еще потому, что он влечет к пропасти, он пропах смертью и несет безмерные страдания той части земли, которая иначе выродилась бы не то в безупречно организованную фабрику, не то в санаторий для слабоумных.
– Жизнь в демократиях стала безопасна, – негодовал поэт Пельц. – И нашему существованию все более недоставало героического пафоса. Спектакль, зрителями которого мы теперь становимся, – это спектакль о рождении нового человеческого типа – нет, гораздо больше: о возрождении древнего, магически воинственного человеческого типа. Какой прекрасный, захватывающий спектакль! Какой волнующий процесс! Вы должны гордиться, дорогой Хефген, что можете активно принимать в нем участие!
При этом он с любовью смотрел на Хендрика своим тихим, ледяным взглядом.
– Жизнь снова обретает ритм и прелесть, она пробуждается от оцепенения, скоро она вновь, как в прекрасные, угасшие эпохи, обретет стремительность и порыв. Тем, кто не в силах видеть и слышать этот новый ритм, танец может показаться заученным строевым маршем. Глупцы ошибаются. Глупцов обманывают внешние признаки архаически-военного стиля. Какое грубое заблуждение! Ведь на самом деле это не Маршировка, а упоение, теперь не маршируют, а упиваются экстазом. Наш любимый фюрер толкнул нас во тьму, в ничто. Как же нам не восхищаться им – нам, поэтам, у которых свое особое отношение ко тьме и бездне? Ведь когда мы называем нашего фюрера божественным, это никакое не преувеличение. Он – божество преисподней, божество, которое для всех народов, посвященных в магию, было самым главным. Я безгранично им восхищаюсь, ибо я безгранично ненавижу скучную тиранию разума и мещанскую фетишизацию прогресса. Все поэты, заслуживающие этого имени, – урожденные и заклятые враги прогресса. Ведь самый акт писания стихов – рецидив древних и святых, доцивилизованных отношений. Творить и убивать, кровь и песня, убийство и гимн – все рифмуется. Все рифмуется, что за пределами цивилизации, что уходит вглубь, в тайные пласты, насыщенные тревогой. Да, я люблю катастрофы, – говорил Пельц, склоняя лицо с меланхолически свисающими щеками и как-то особенно улыбаясь, словно ощущая на толстых губах сладость конфеты или поцелуя. – Я жажду смертоносных приключений, жажду бездны, жажду крайностей, которые ставят человека вне цивилизованных связей, приводят его в тот край, где нет страховых обществ, нет полиции, нет комфортабельных лазаретов, целящих его от безжалостных стихий и хищных врагов. Нам все это предстоит, можете быть уверены, мы еще насладимся ужасами. Но мне никаких ужасов не хватит. Мы все еще слишком ручные – наш великий фюрер еще не может действовать совсем так, как ему бы хотелось. Где они, публичные пытки? Где публичные сожжения прекраснодушных болтунов и тупиц, поклонников разума? – На этом месте Пельц нетерпеливо постучал ложкой по чашке, словно подзывая официанта, который слишком долго заставляет его ожидать обещанного аутодафе. – Почему все еще существует давно уже неуместная секретность, ложная стыдливость, зачем прячут за стенами концентрационных лагерей прекрасный праздник пыток? – спрашивал он строго. – А сжигали, насколько мне известно, до сих пор лишь книги, но ведь это ничто! Но наш фюрер покажет нам и другое, я твердо на это рассчитываю. Зарево пожара на горизонте, кровавые ручьи по всем дорогам и неистовый танец оставшихся в живых, танец уцелевших среди трупов! – Поэт весь озарился радостной верой в ужасы ближайшего будущего. С изысканной вежливостью, набожно сложив руки на груди, он наставлял Хендрика: – А вы, мой дорогой господин Хефген, вы останетесь среди тех, кто будет особенно грациозно прыгать над падалью. У вас на лице это написано, я умею читать. Вы – прелестный сын преисподней, и не случайно господин премьер-министр вас отличает. Вы обладаете подлинным плодотворным цинизмом абсолютного гения. Я вас чрезвычайно ценю и люблю, мой дорогой господин Хефген.