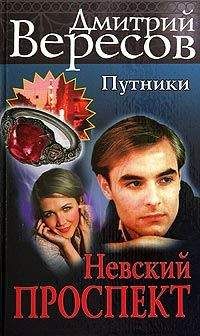Само же судно отогнали в плановый ремонт, с глаз долой, благо по тому плану ремонт уж лет пять как полагался. И в пароходстве подумывали, не переименовать ли его на всякий случай: нет у нас вообще такого парохода — о чем вы говорите? не понимаем. Там, кстати, впервые заинтересовались: а кто она, собственно, была такая, эта Вера Артюхова? да и была ли еще…
А тот наш знай долдонит: да, совершил убийство, и желаю понести наказание и искупить вину. Да может тебе почудилось? Нет — запросите полицию того порта. Да мало ли кто там утоп! Нет — вяжите меня, это я убил! Хоть ты с ним тресни.
И принимается в конце концов простое и здравое решение, которое всех должно устроить и разрядить ситуацию. Назначается психиатрическая экспертиза, и признают его добрые психиатры душевнобольным. Ослабла психика моряка от монотонной работы в замкнутом пространстве. Отсутствие земли и женщин, жаркий климат — ну и помрачился слегка. Разновидность маниакально-депрессивного психоза. На него, значит, надавил нечуткий коллектив — и он предпринял самооговор. Что вы видите на этой картинке? Ну: шизофренические фантазии.
Вызывают жену: он у вас убить может? Говорит: ни в жисть бы не подумала. А фантазировать может? Да, говорит, он у меня романтик, о душе любил рассуждать. А-а, о душе? вот видите? типичная шизофрения.
И дело прекратили, а его законопатили в психушку. И стали лечить. Он орет: я убил!! Ему бах аминазина — и ходит тихий-тихий, только слюни пускает. А, тихий, депрессия? бах ему инсулиновый шок, чтоб прыгал веселее.
Что вы думаете? Через несколько месяцев действительно вылечили. Стал он соображать, наконец, что к чему. Да: ничего не было. Да: придумал. Конечно: был болен; понимаю. А теперь лучше. Почти здоров. Да, выйти хочу, но сначала надо до конца вылечиться. Загляденье, а не больной, любо-дорого поглядеть.
Дома он поплакал у жены на груди и выпил водочки, чтоб полегчало. Утром еще поплакал, и потом опять выпил.
Так и повелось: утром плачет, вечером пьет. Неделю пьет, месяц пьет. А утром плачет.
Когда он проплакал свою сберкнижку, жена хватилась в доме кой-чего из украшений и одежды. Произошел разговор, и он безропотно отправился обратно в психушку и попросил его еще полечить. С ним побеседовали и сказали, что он в общем здоров, а если насчет алкоголизма, так можно пройти курс наркологического лечения. Он был на все согласен, наркологическое так наркологическое: лечите, родимые. И полечили бы, да мест не было.
Тогда они стали плакать с женой вместе, а пил он один. Потом и пить стали вдвоем. Она скоро бросила, потому что ему это не помогало, а расходы увеличились вдвое. И детей растить надо было.
С флота его, естественно, списали вчистую, и в паспорт шлепнули статью о психической болезни. С такой статьей на работу могут взять только коробочки клеить. Он клеил коробочки, а сам утром плакал, а вечером пил. И днем пил, с такими же клейщиками коробочек, как он сам. А чтоб меньше плакать, стал и с утра пить.
А жизнь есть жизнь, хотя никакая это не жизнь, а одно паскудство. И жене эта нежизнь вконец обрыдла. Конечно: одно дело — верно ждать возвращения из тюрьмы любимого мужа, очищающегося от греха, и совсем другое — жить в квартире с рехнутым плачущим алкоголиком. Дети ведь. И сама еще не старуха. Хотела сдать его в ЛТП, но все-таки пожалела. И в конце концов она с ним развелась и разменяла квартиру, воткнув его в комнату без окна в коммуналке.
Регулярно стал он наведываться к воротам порта и просить сколько-нибудь бывшему мореману на опохмел. Все знали его историю, и приходящие из рейса — а приходы он следил тщательно — отсыпали щедро: это даже вошло в ритуал. Но ритуалы, связанные с материальными затратами, раздражают людей, и со временем его стали гнать.
Недавно я видел его в сквере по Петра Лаврова, прямо рядом с Литейным. Там сидело на скамеечке рядком пять таких же ханыг.
Из углового магазина вышли трое с бутылкой и принялись озираться. Крайний со скамейки проворно встал и приблизился к ним: протянул стакан из кармана. Они выпили по очереди, и ему налили грамм сорок — за стакан. Он глотнул, поблагодарил и вернулся, передав стакан следующему, а сам сел теперь с другого края скамейки, в конец очереди, передвинувшейся, таким образом, на одного человека. И к новой компании пошел уже со стаканом следующий. Есть, оказывается, у ханыжек такая форма выпивать бесплатно.
О старый Ленинград, коммуналки Лиговки и Марата! Только врачи и милиция знают изнанку большого города. Какие беспощадные войны, какие античные трагедии. Не было на них бытописателя, запрещена была статистика, и тонут в паутине отошедших времен потрясающие душу и разум сюжеты: простые житейские истории.
Не любил старичок шума. Тихонький и ветхий. Раз в неделю ходил в баньку, раз в месяц стоял очередь за пенсией. Смотрел телевизор «Рекорд» и для подработки немножко чинил старую обувь.
И жил в той же квартире, пропахшей стирками и кастрюлями, фарцовщик. Как полагается фарцовщику, молодой, наглый и жизнерадостный. Утром он спал, днем фарцевал, а после закрытия ресторанов гулял ночь дома с друзьями и девочками. Они праздновали свое веселье и занимались сексом, и даже групповым.
С этим развратом старичок, ветеран всех битв за светлое будущее, как-то мирился. Хотя чужое бесстыжее наслаждение способствует неврастении. По морали он был против, но по жизни мирился. А что сделаешь. Фарцовщик здоровый и нахальный.
А вот что музыка до утра ревела и танцы топотали, это старичка сильно доставало. Сон у него был некрепкий, старческий; да хоть бы и крепкий, рев хорошей аппаратуры медведя из берлоги поднимет.
Будь наш старичок медведь, он бы им, конечно, давно скальпы снял. Покрошил ребрышки. Но сила была их, и поэтому он только вежливо просил. Мол, после двадцати трех часов по постановлению Горсовета прошу соблюдать тишину. Обязаны выполнять, люди спать должны.
Сначала он активно протестовал, требовательно, но ему щелкали небрежно по шее, и он притих. Пробовал и милицию вызывать, но с милицией они договаривались дружески, совали в лапу, подносили стакан, подвигали обжимать девок, и та миролюбиво отбывала. По отбытии старичка слегка били. Не били, конечно, а так, трепали. Для назидательности. Чтоб больше не выступал.
Прочие соседи вмешиваться боялись. Порежут еще эти бандюги. А так выпить угостят. Старичок же не пил. Он был старого закала, очень порядочный. И несгибаемый. И жил, главное, через стенку, весь звуковой удар на себя принимал: каблуки гремят, бляди визжат, диваны трещат — и музыка орет. Спокойной ночи.
Постучать в стенку тоже нельзя — в лоб получишь. Так он избрал такой способ сопротивления. Он садился в коридоре на табуретку, под лампочку, между кухней и туалетом. И когда кто-нибудь туда шел, старичок делал замечание:
— Прошу вас перестать шуметь, пожалуйста. Иначе я буду вынужден принять меры. Я вас предупреждаю.
Он с изумительной настойчивостью это повторял, и к нему постепенно привыкли, как к говорящему попугаю. Пьяные не обращали внимания, а потрезвей иногда откликались: «Добрый вечер, дедуля; конечно».
Уснуть это старичку, разумеется, не помогало, но помогало уважать себя. Потому что не смирился, не дал себя запугать, но в культурной и безопасной форме продолжал противостоять безобразию и бороться за свои права. Мирный Китай делал агрессивной Америке четыреста сорок седьмое серьезное предупреждение, и сосуществование различных систем продолжалось своим чередом.
Вот он дежурит на своем тычке, а один гость в ответ:
— Да пошел ты на …. старый хрен. Не свисти тут.
Старичок побелел и повторяет:
— А я вам говорю — чтоб прекратили шум!
А гость пьяной губой шлепает:
— Ссал я на тебя. — И, глумливо не закрывая дверь, журчит мерзкой струей в унитаз.
Старичок прямо затрясся, зазаикался:
— Хам. Подонок. Мерзавец. Стрелять таких.
— Чего-чего-о? — И пьяный его пятерней в лицо, пристукнул головой о стенку.
Старичок заплакал от бессильного унижения.
— Последний раз, — плачет, — предупреждаю! — И кулачок сжал.
«От глист плешивый», — слюнявит гость и, скрывшись в комнате, прибавляет музыку. И хохот оттуда: «Наш герой на посту!..»
Ружье отнюдь не висело в первом акте на стене. Оно валялось разобранное на антресолях лет тридцать. Старичок долго извлекал меж пыльного барахла чехол, балансируя на стремянке. На кухне из одного соседского столика вытащил наждачную шкурку, из другого — масло для смазки швейной машинки. И стал чистить ружье, не торопясь. Может, у них пока все и стихнет… Но там не стихало. Так что он смазывал ружье и заводился пуще, сатанел сверх предела.