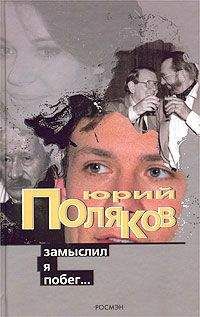Однажды Башмаков, в сотый раз выслушивая историю принцессиной измены, спросил вдруг:
— Можно нескромный вопрос?
— Давай!
— Не обидишься?
— Нет.
— Какая у нее была грудь?
— Что-о? А тебе-то зачем?
— Нужно, раз спрашиваю.
Рыцарь задумался, и на его лице возникло выражение нежной мечтательности.
— Во-от така-ая! — он сделал движение пальцами, точно оглаживал невидимые полусферы.
— Нарисуй! — потребовал Башмаков, подвигая бумажку и давая ручку.
Каракозин еще немного поразмышлял и неуверенно изобразил.
— М-да… «Фужер для шампанского». Скрытная, опасная, холодная женщина. Я так и думал. Забудь о ней. Ты был обречен с самого начала!
— Холодная? — Джедай захохотал. — Холодная!!! — Он разорвал в клочья рисунок и заплакал целительными пьяными слезами.
— Забудь о ней! — успокаивал, как мог, Башмаков.
— Не могу!
— Значит, если она к тебе завтра вернется, ты ее простишь?
— Прощу…
— Я бы Катьку никогда не простил! — убежденно сказал Башмаков.
— Я его убью! — угрюмо сообщил Каракозин.
— Кого?
— Этого подонка! Задушу его же цепью! А мертвый он ей не нужен.
— Мертвые вообще мало кому нужны, — рассудительно заметил Башмаков. — Но ты его не убьешь…
— Почему это?
— При такой охране ты к нему близко подойти не сможешь! Проще революцию сделать. У него тогда все отберут — и она сама к тебе вернется! — с пьяным сарказмом пророчествовал Башмаков.
— А что? — задумался Джедай. — А что?! — повеселел Каракозин. — А что!!! — Он вскочил, схватил гитару, рванул струны и запел:
Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов…
Потом Рыцарь отбросил гитару, обнял Башмакова и зашептал вдохновенно:
— Олег Трисмигистович, вот что я тебе скажу…
И тут раздался телефонный звонок. Это была Катя.
— Нет, вообще не пьем — разговариваем! — неуверенно ответил, теряя отдельные звуки и даже целые слова, Каракозин и протянул трубку Башмакову.
— Тебя…
— Тунеядыч, срочно домой! Борис Исаакович при смерти…
И тут на самом деле раздался телефонный звонок. Эскейпер снял трубку, приладил ее к уху, но «алло» на всякий случай говорить не стал.
— Это я, — сообщила Вета тихо и таинственно.
— Я думал, ты уже не позвонишь, — по возможности холодно произнес Олег Трудович.
— Я не могла, — еще тише и еще таинственнее сказала она. — Потом все объясню. Ты собрался?
— Да, но… Что случилось? Что с анализом?
— Я еще не была у врача…
— А где ты была? — спросил Башмаков голосом внутрисемейного следователя.
— Потом. Билеты уже у меня. Сомиков взял?
— Да.
— И того, с грустными глазами?
— Конечно, — устало соврал Башмаков.
— Молодец! Я соскучилась! Знаешь, чего мне сейчас хочется больше всего?
— Догадываюсь.
— А знаешь, какое самое удивительное открытие в моей жизни?
— Какое же?
— А вот какое… Когда тебя целуют всю-всю-всю, это намного лучше, чем когда тебя целуют всю-всю…
— Интересно. А почему ты так долго не звонила?
— Ну хорошо, сейчас объясню. Только ты не сердись! В общем, понимаешь… Ой, больше не могу говорить — возвращается… Я тебе перезвоню! Обязательно дождись моего звонка! Не сердись, эскейперчик…
В трубке послышались короткие гудки.
«Кто возвращается? — удивился Башмаков. — Этого еще не хватало!»
Будет смешно, если Вета окажется в конце концов женщиной-елкой и бросит его. Ну, бросит и бросит… Не станет же он из-за этого, как Рыцарь Джедай, вступать в Партию революционной справедливости! Нет, не станет…
Олег Трудович вдруг поймал себя на том, что с самого утра, с самого начала сборов чувствует в теле какое-то знобкое недоумение. Это похоже на то, что он испытывал много лет назад, когда темным знобящим утром собирал вещевой мешок, чтобы идти на призывной пункт. «А вот брошу все и никуда не пойду!» — храбрился он, но прекрасно понимал: ничего не бросит, а пойдет как миленький, потому что в кармане лежит неотменимая, ознаменованная строгими печатями повестка…
Собственно, жизнь превращается в судьбу благодаря таким вот повесткам — и печати совсем не обязательны. Та дурацкая банка с икрой была повесткой. И гибель «Альдебарана» — тоже повестка. Но чаще всего повестки приходили к нему почему-то в виде женщин — Оксана, Катя, Нина Андреевна, а теперь вот Вета. Юная повесточка с нежной кожей, требовательным лоном и преданными глазами… Но преданность ненадежна и скоротечна. Ему будет шестьдесят, а ей всего тридцать семь. Она отберет у Башмакова переходящий алый колпак и отдаст другому… эскейперчику…
А не хотелось бы остаться в старости, как Борис Исаакович, беспомощным и одиноким.
Слабинзон уехал в Штаты в 90-м. Он долго стоял в очереди к американскому посольству, отмечался в списках, как за дефицитом. Наконец его вызвали на собеседование, и посольский юноша с лицом утонченного вырожденца подробнейшим образом расспрашивал Борьку о житье-бытье, родителях, работе, политических взглядах. Неизвестно, что там Слабинзон наплел, но ему дали разрешение выехать в Америку чуть ли не в качестве беженца. Теперь оставалось главное — пробиться сквозь ОВИР. И он пробился! Оставшееся до отъезда время счастливый отъезжант бегал по разным инстанциям, вплоть до районной библиотеки, собирая подписи и печати, удостоверявшие, что он, Борис Леонидович Лобензон, ничего больше не должен этой стране и с чистой совестью может отправляться на новое место жительства. Кроме того, Слабинзон доставал через знакомых отца текинские ковры и переправлял их дальним родственникам своей бывшей жены Инессы, имевшим магазинчик на Брайтон Бич. Олег помогал ему возить ковры в Шереметьево и очень удивлялся, зачем тащить в изобильную Америку отечественные изделия, например вот этот старый, затрепанный коврище с огромными, прямо-таки чернобыльскими, синими розами. Таможенники, брезгливо осматривая ковер, даже спросили ехидно:
— А собачий коврик тоже в Америку пошлете?
Борька в ответ лишь вздохнул, как духовидец на лекции по научному атеизму.
Башмаков тоже удивлялся:
— На черта ты все это тащишь?
— Ну как ты не понимаешь, Тугодумыч! Что в первую очередь делает человек, уехавший из этого проклятого Совка?
— Что?
— Он создает в отдельно взятом районе Нью-Йорка, а точнее, на Брайтон Бич, свой маленький, миленький Совочек. А какой же Совочек без ковров! Понял?
— Приблизительно. Проводы были скромные. Борис Исаакович приготовил прощальный ужин, благо как раз получил ветеранский продзаказ. Прилавки гастрономов к тому времени настолько опустели, что даже мухи исчезли. Правда, иногда по телевидению сообщали о том, как селяне пошли за грибами и наткнулись в лесу на гору сваленной на полянке любительской, реже — сырокопченой. Колбаска была еще совсем свеженькая — и деревня, поменяв излишки на водку, гуляла целую неделю.
— Вредительство! — замечал по этому поводу Борис Исаакович.
— В тридцать седьмом за такие вещи расстреливали! — добавлял Борька.
— И правильно делали! — кивал генерал.
— Дед, а нельзя как-нибудь так, чтобы не расстреливать и чтобы колбаса была?
— Очевидно, нельзя…
Прощальный ужин проходил печально. Ели фаршированную курицу, приготовленную по рецепту покойной Аси Исидоровны. Борька в очередной раз разлил в стопки купленную по талонам водку и сказал:
— На посошок!
— Не жалко уезжать? — спросил Башмаков.
— Из старой квартиры всегда жалко уезжать, даже если переезжаешь из коммуналки в отдельную. Так ведь, дед?
Борис Исаакович, ставший на время сборов внука еще молчаливее, чем обычно, посмотрел на Борьку печальными глазами. И Башмаков вдруг изумился: как же он с такими печальными глазами красноармейцев в бой водил?
— По-моему, ты совершаешь очень серьезную ошибку! — тихо молвил генерал.
— Человек имеет право жить там, где хочет! Я свободная личность!
— Ты? — удивился Башмаков.
— Я!
— Это ты, Слабинзон, в очереди к посольству заразился.
— Да пошел ты, комса недобитая!
— Заткнись, морда эмигрантская! Спор, перераставший из шутливого во всамделишный, остановил Борис Исаакович, пресек молча, одним лишь взглядом — и Башмаков вдруг понял, как он поднимал залегшую роту.
— Не надо путать свободу перемещения со свободой души. Можно и в колодках быть свободным, — сказал Борис Исаакович.
— Осточертели вы мне с вашей романтикой глистов, сидящих в любимой заднице! Нет, Моисей правильно водил наш маленький, но гордый народ по пустыне, пока последний холуй египетский не сдох!
— Ты где это прочитал?
— Какая разница? В Библии! — гордо ответил Борька.