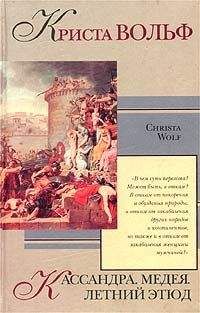В декабре Бутонов уехал в Швецию — недели на две, как он сказал, хотя, конечно, отлично знал день возвращения. Любил свободу. Ника почти не заметила его отсутствия. Предстояла очередная сдача детского спектакля к школьным каникулам, к тому же приехал наконец Вахтанг, и все свободное время Ника проводила с ним и его друзьями, московскими грузинами. Гоняла по ресторанам, то в Дом кино, то в ВТО.
Маша затосковала, все пыталась добраться хоть до Ники, чтобы поговорить с ней о Бутонове. Но Ника была недосягаема. С другими подругами говорить о Бутонове было неинтересно и даже невозможно.
Бессонница, которая до той поры только точила коготки, в декабре одолела Машу. Алик приносил ей снотворное, но искусственный сон был еще хуже, чем бессонница: навязчивое сновидение начиналось с любого случайного места, но всегда сводилось к одному: она искала Бутонова, догоняла его, а он ускользал, проливался как вода, прикидывался, как в сказках, разными предметами, растворялся, превращался в дым…
Два раза Маша ездила в Расторгуево, просто для того, чтобы совершить эту поездку от Павелецкого вокзала, доехать в электричке до знакомой станции, пешком дойти до его дома, постоять немного у калитки, увидеть заснеженный дом, темные окна — и вернуться домой. Все это занимало часа три с половиной, и особенно приятна была дорога туда.
Две недели уже прошло, но он не объявлялся. Маша позвонила ему в Хамовники. Пожилой и усталый женский голос ответил, что он будет часов в десять. Но его не было ни в десять, ни в одиннадцать, а на другое утро тот же голос ответил:
— Позвоните в пятницу.
— А он приехал? — робко спросила Маша.
— Я вам говорю, позвоните в пятницу, — раздраженно ответила женщина.
Был еще только понедельник.
«Приехал и не звонит», — огорчилась Маша. Позвонила Нике, спросила, не знает ли она что-нибудь о Бутонове. Но Ника ничего не знала.
Маша опять собралась в Расторгуево, на этот раз ближе к вечеру. Снег перед воротами бутоновского дома был расчищен, ворота закрыты и заперты. Машина стояла во дворе. В бабкиной половине горел маленький свет. Маша рванула застылую калитку. Тропинка к дому была завалена снегом. Она шла, проваливаясь чуть не до колена. Долго звонила в дверной звонок — никто не открыл.
Хотелось проснуться — настолько это было похоже на один из снов. Так же ярко, горько, и Бутонов так же мелькал каким-то знаком присутствия — его бежевой машиной, которая стояла со снежным одеялом на крыше, — не давался в руки Бутонов.
Маша постояла минут сорок и ушла.
«Там Ника», — решила она.
В электричке она думала не о Бутонове, а о Нике. Ника была соучастницей ее судьбы с раннего возраста. Их соединяла, помимо всего, еще и физическая приязнь. Никины выпуклые губы в поперечных морщинках, запас на улыбку, складки скрытого смеха в уголках рта, хрустящие рыжие волосы нравились Маше с детства, как Нике — Машина миниатюрность, маленькие ступни, резкость, тонкость во всем облике.
Что касается Маши, она без колебаний предпочла бы Нику самой себе. Ника же о подобных вещах не задумывалась, ей-то в себе всего хватало…
И Бутонов соединил их теперь каким-то таинственным образом… Как Иаков, женившийся на двух сестрах… Их можно было бы назвать «сожены», как бывают «собратья». Иаков входил в шатры, брал сестер, брал их служанок, и это была одна семья… И что такое ревность, как не вид жадности… Нельзя владеть другим человеком… Пусть так — все были бы братья и сестры, мужья и жены… И сама же улыбнулась: великий бордель Чернышевского, какой-то там сон Веры Павловны.
Ничего единственного, уникального, ничего личного. Все скучно и бездарно. Свободны мы или нет? Откуда это чувство стыда и неприличия? Пока ехала до Москвы, написала Нике стихотворение:
Вот место между деревом и тенью,
вот место между жаждой и глотком,
над пропастью висит стихотворенье, —
по мостику висячему пройдем.
Потемки сна и коридоры детства
трофейным освещаю фонарем,
и от признаний никуда не деться:
не убиваем, ложек не крадем,
не валенками шлепаем по лужам,
не песенки запретные поем,
но, ощущая суеверный ужас,
мы делаем ужасное вдвоем…
До дому добралась около двенадцати — Алик ждал ее на кухне с бутылкой хорошего грузинского вина. Он закончил эксперименты и мог хоть завтра подавать заявление об уходе. Только тут Маша окончательно поняла, что скоро она уедет навсегда.
«Отлично, отлично, кончится эта позорнейшая тягомотина», — подумала она. Они провели с Аликом длинный вечер, затянувшийся до четырех утра. Разговаривали, строили планы, а потом Маша уснула без сновидений, взявши Алика за руку.
Проснулась она поздно. Деборы Львовны уже несколько дней не было дома, в последнее время она часто и подолгу гостила у больной сестры. Алики уже позавтракали, играли в шахматы. Картина была самая мирная, даже с кошкой на диванной подушке.
«Как хорошо! Кажется, я начинаю выздоравливать», — думала Маша, крутя тугую ручку кофейной мельницы.
Потом взяли санки и пошли втроем на горку. Вывалялись в снегу, взмокли, были счастливы.
— А в Бостоне снег бывает? — спросила Маша.
— Такого не бывает. Но, мы будем в штат Юта ездить на горных лыжах кататься, будет не хуже, — пообещал Алик. А все, что он обещал, он всегда выполнял.
Бутонов позвонил в тот же день вечером:
— Ты не соскучилась?
Накануне он видел топтавшуюся у калитки Машу, но не открыл ей, потому что в гостях у него была дама, милая толстуха переводчица, с которой они были вместе в поездке. Две недели они поглядывали друг на друга выразительно, но все случая не представлялось. Мягкая и ленивая женщина, очень похожая, как он потом понял, на его жену Ольгу, сонной кошкой ворочалась в бутоновских объятиях под треньканье Машиных звонков, и Бутонов чувствовал острое раздражение против переводчицы, Машки и себя самого. Ему нужна была Машка, острая, резкая, со слезами и стонами, а не эта толстуха.
Он звонил Маше с утра, но сначала телефон не отвечал, был отключен, потом два раза подходил Алик, и Бутонов вешал трубку, и только под вечер дозвонился.
— Пожалуйста, не звони больше, — попросила Маша.
— Когда? Когда приедешь? Не тяни, — не расслышал Бутонов.
— Нет, я не приеду. И не звони мне больше, Валера. — Уже тягучим, плаксивым голосом: — Я не могу больше.
— Машка, я соскучился ужасно! Ты что, сбрендила? Обиделась? Это недоразумение, Маш. Я через двадцать пять минут буду у твоего дома, выходи. — И повесил трубку.
Маша заметалась. Она так хорошо, так прочно решила больше с ним не видеться, испытала если не освобождение, то облегчение, и сегодняшний день был такой хороший, с горкой, с солнцем… «Не пойду», — решила Маша.
Но через тридцать пять минут накинула куртку, крикнула Алику: «Буду через десять минут!» — и понеслась вниз по лестнице, даже лифта не вызвав.
Бутоновская машина стояла у порога. Она рванула ручку, села рядом:
— Я должна тебе сказать…
Он сгреб ее, сунул руки под куртку:
— Обязательно поговорим, малыш.
Тронул машину.
— Нет-нет, я никуда не поеду. Я вышла сказать, что я никуда не поеду.
— Да мы уже поехали, — засмеялся Бутонов.
В этот раз Алик обиделся:
— Чистое свинство! Неужели сама не понимаешь? — отчитывал он ее поздно вечером, когда она вернулась. — Человек уходит на десять минут, а приходит через пять часов! Ну что я должен думать? Попала под машину? Убили?
— Ну прости ради бога, ты прав, свинство. — Маша чувствовала себя глубоко виноватой. И глубоко счастливой…
А потом Бутонов исчез на месяц, и Маша всеми силами старалась принять его исчезновение «как факт», и этот факт прожигал ее до печенок. Она почти ничего не ела, пила сладкий чай и вела нескончаемый внутренний монолог, обращенный к Бутонову. Бессонница приобретала все более острую форму.
Алик встревожился: нервное расстройство было очевидно. Он стал давать Маше транквилизаторы, увеличил дозировку снотворного. От психотропных препаратов Маша отказывалась:
— Я не сумасшедшая, Алик, я идиотка, и это не лечится…
Алик не настаивал. Он считал, что это еще одна причина, почему надо торопиться с отъездом.
Дважды приезжала Ника. Маша говорила только о Бутонове. Ника его ругала, сама каялась и клялась, что видела его последний раз в декабре, еще перед его отъездом в Швецию. Еще говорила, что он пустой человек и вся эта история только тем и ценна, что Маша написала столько замечательных стихов. Маша послушно читала стихи и думала: неужели Ника ее обманывает и это она была у Бутонова, когда Маша звонила под дверью?
Алик гонял по всякого рода канцеляриям. Собрал целую кучу документов. Он спешил не только из-за Маши — в Бостон гнала его и работа, в отсутствие которой он тоже как бы заболевал. Способ выезда был непростой: сначала в Вену, по еврейскому каналу, а оттуда уже в Америку. Не исключено было, что между Веной и Америкой вклинится еще и Рим — это зависело от скорости прохождения документов уже через зарубежных чиновников.