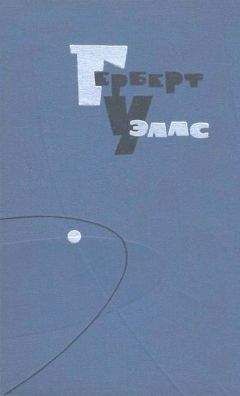Не забегая далеко вперед, согласимся, что сегодня любовный сюжет растянут более, чем полтора века назад. Существенна уже не только коллизия «любит — не любит», проживаемая до первой свадьбы, но и все дальнейшие события, не имеющие четкой кульминации. Соответственно любовные сюжеты в прозе стали более разнообразными, но и более пологими. Им уже не хватает энергии, чтобы держать на себе полный вес романа. Да и экзамены для героев стали разнообразнее: больше «предметов» в программе. Видимо, мысль о смерти Аси, овладевшая героем тургеневской повести, была мыслью композиционной. Сокращая век героини по отношению к возможному, герой добивается такой интенсивности чувства, при которой уже почти возвращает себе утрату, заменяя девушку ее идеальным образом. Если бы Ася вдруг повстречалась ему располневшей матроной, это было бы событие того же качества, как и сцена объяснения, «испортившая» вещь. Современный же любовный сюжет не может обойтись без «порчи»: в нем нет ничего окончательного.
Наряду с коммуникативностью и остросюжетностью любовная история утратила также четкую субъектно-объектную ориентацию. Совершенно понятно, что под «русским человеком» в заголовке статьи Чернышевского подразумевалась никак не Ася. Перепрыгивая через все успехи эмансипации и, не к ночи будь помянут, феминизма, сразу перейдем к тому, что сегодня и женщины пишут прозу. Перемена эта того же качества, как если бы Луна, имеющая, с нашей точки зрения, обратную сторону, стала бы вдруг вращаться вокруг собственной оси. Что касается лавбургера, то в этом джазе только девушки (в действительности есть и мужчины, пишущие под женскими псевдонимами, то есть поступающие точно как герои помянутого фильма). При том, что изначально лавбургер был создан мужскими перьями, мы можем говорить о перемене мест слагаемых — но сумма, то есть главные качества жанра, остается прежней. А в мейнстриме произошли события более радикальные: зазвучала иная точка зрения, всплыла иная психология. Даже в маргинальной прозе, предпочитающей держаться от мейнстрима на порядочном (порой спасительном для себя) расстоянии, образовалась женская «маргинальность в квадрате». Не самая, надо сказать, выигрышная позиция. Для нашей темы, однако, существенно то, что женская проза, завоевывая место под литературным солнцем, более страстно, чем мужская, выясняет отношения полов — и соответственно активней прописывает любовный сюжет. Превращая его порой в антилюбовный.
Попытка классифицировать или хотя бы каталогизировать любовный сюжет в современной прозе показывает, что для этого имеется не так много материала. Самым естественным было бы обратиться к «житейской» дамской беллетристике, представленной такими именами, как Виктория Токарева и Галина Щербакова. Однако эта литература, имеющая своего традиционного читателя, стабилизировалась на периферии процесса, где почти ничего уже не происходит. В общем виде любовный конфликт «житейской» беллетристики выглядит так: героиня вырабатывает в душе идеальный образ партнера, себя и мира — и тем самым становится достойна этого идеала, который не может быть предоставлен ей несовершенной действительностью. Содержащийся в этой литературе скрытый упрек всему на свете и дает очевидный повод некоторым критикам называть такую прозу «бабством». Тот самый случай, когда не вполне справедливое определение оказывается точным. Во всяком случае, в этой области не просматривается проблем, о которых было бы интересно говорить.
Невольно следуя образцам ток-шоу «Я сама» (где гендер, там сегодня в первую очередь телевизор), предоставим слово мужской стороне. Для прозы, сделанной сильной рукой сильного пола, характерны любовные линии, прорисовывающие на самом деле совсем другое. У Андрея Волоса в «Недвижимости» главный герой, занятый кустарным видом риэлторского бизнеса, представляет собой отчасти зеркало, вносимое в разные квартиры и отражающее застигнутых обитателей. Такое панорамное зрение закрепляет за героем статус работающей камеры, что хорошо для иронического письма, но недостаточно для романа. Так появляется история умирающего родственника, которая с основной линией текста взаимодействует слабовато. Формальной скрепой служит наличие у родственника спорной дачки — тоже «недвижимости». Однако для того, чтобы добиться цельности текста, пришлось клацнуть степлером еще в одном углу: среди жаждущих что-то сделать со своей жилплощадью появляется девушка Ксения, к которой у героя возникает смутный мужской интерес. При этом роль rendez-vous играют не реальные встречи героя с героиней, а ее самоубийство, впоследствии не подтвердившееся. В этот самый острый момент героя разворачивает к самому себе: «Мне подумалось: ну теперь-то я могу что-нибудь почувствовать? Ну хоть что-нибудь? Или вот это жжение в груди — это и есть чувство? Ощущение, что меня сначала заморозили, а потом облили кипятком, — это и есть чувство? Не много, если вдуматься». Такое символическое обнажение перед самим собой, мысленное срывание с себя одежды и кожи и есть кульминация любовного сюжета. Этот малый сквозной прокол, парный большому (родственник умирает по-настоящему), служит для того, чтобы прикрепить героя к его собственной жизни, отличной от жизни в продаваемых квартирах. Но применительно к «Недвижимости» мы можем говорить не о любовном сюжете, а о прочерченном его отсутствии.
У Дмитрия Липскерова в романе «Родичи» много эротики. При этом любовная линия отличается от традиционной примерно так, как в теннисе работа у стенки отличается от игры на корте. Главный герой «Родичей» — своеобразный «идиот». В его человеческом составе процент божественного существенно выше, чем у среднестатистического гражданина. Герой страдает амнезией, потому что не в состоянии помнить плохое — то есть не помнит из собственного прошлого почти ничего. Но есть и «сухой остаток». Людям искренним, не вполне испорченным «идиот» являет то, что они хотят увидеть в лучших мечтах. Так, патологоанатом Ахметзянов всю жизнь мечтает быть балетмейстером: для него главный герой становится гениальным танцовщиком. Женщины, способные испытывать любовь, находят в «идиоте» идеального партнера. Но все-таки это стенка, опять-таки зеркало, в котором персонажи книги видят лучшую часть самих себя. По ходу романа создается ощущение, что крепость «стенки» занимает автора больше, чем смена отражений: философская задача преобладает над психологической. То, что для традиционного любовного сюжета является условной целью, здесь становится условным средством; условный противник в лице литературного критика не может не отметить усекновение любовного сюжета в целях именно этого романа. Видимо, роман, подходящий под определение «современный», вообще эгоист: ему нет и не может быть дела до всего остального литпроцесса, он тянет сюжеты на себя и рвет их сообразно своим потребностям на причудливые куски. Понятно, что старому поношенному любовному сюжету здесь не поздоровится.
Имеется, однако, в современной литературе известная проза, которая так и называется: «Удавшийся рассказ о любви». Проставляя над вещью почти авторецензионный заголовок, Владимир Маканин, должно быть, имел в виду ту найденную им «коробочку» жизненных обстоятельств, что оказалась впору любовной истории. Не случайно — именно «рассказ», то есть ряд событий, а не способ их описания в тексте (сам текст по жанру, безусловно, повесть). Еще одна игровая сторона заглавия: саму любовь удавшейся никак не назовешь.
Он — в советские времена «молодой» писатель, почти диссидент, ныне — ведущий авторской программы на ТВ. Она соответственно цензор и содержательница борделя. Она выступает как представитель реальной жизни, он этой жизни противостоит. Она всегда умела приспособиться и выжить, он вечно попадал в ситуации, взывающие к активному состраданию. Возможно, автора вдохновила на создание текста дерзкая идея вылепить из цензора положительного героя — что для шестидесятнической ментальности действительно пахнет молнией и грозовым озоном. Любовное чувство здесь играет роль переключателя, меняющего мстительный «минус» на более человечный «плюс». Лариса любит Тартасова и, стало быть, права. К тому же она всю жизнь подставляет плечо: то помогает Тартасову протаскивать через цензурные рогатки живые страницы прозы, то пытается его трудоустроить, то принимает его, неудачника, в своем по-домашнему милом бордельчике, чтобы неудачник немного утешился. Тартасов же всю жизнь заботится о себе и в результате — Бог не фраер — теряет и волю, и талант.
Если отвлечься от шестидесятнического контекста, то повесть Маканина тяготеет не к любовному, а к назидательному жанру. Любовное чувство Ее к Нему как источник правоты и оправданности жизни — это банально даже при небанальном маканинском письме. Глубины имеются на периферии текста, выписываются автором просто от языка, но основа повести слишком головная. Кстати, «рассказ» имеет дефект: никто из знающих положение дел в массовых медиа не поверит, будто известная телеперсона, каковой является Тартасов, в материальном смысле неуспешна. Казалось бы: писатель следует не букве, но духу действительности, посему имеет право делать фактические ошибки. Но «любовная история» и «жизнь» связаны, как мы помним, интимно: проза заражается от «рассказа» недостоверностью. И хотя любовный сюжет не разорван здесь на фрагменты, но «удачно» вписан в остальной событийный ряд (как одна геометрическая фигура бывает вписана в другую) — небольшая частность, подобно пятну на двух сложенных листах бумаги, проникает из «жизни» в текст и «портит» вещь, как не смогла бы испортить повесть иного сюжета и иного плана.