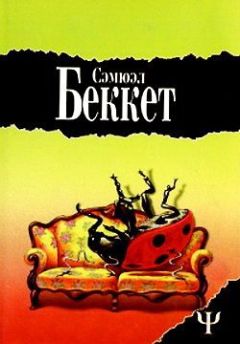Однажды вечером на Дегро-стрит я наблюдал, как Аура выманивала бродячую или сбежавшую от кого-то кошку из-под машины. По меньшей мере десять минут она, сложившись пополам в своем пуховике, мяукала и сюсюкала, вертела перед припавшим к земле зверьком варежкой, пока черно-белая полосатая кошка не вылезла, не позволила взять себя на руки и, свесив с предплечья Ауры лапки, не расположилась, как у себя дома. Ты только послушай это мурлыканье! Когда я приблизился, кошка устремила на меня враждебный взгляд. Аура сказала: Франсиско, мы возьмем ее домой! А я ответил: нет, Аура, нам не разрешено держать животных, и ты это знаешь. Еще я сказал: к тому же она наверняка бродячая, кто знает, какие болезни она разносит. А потом повторил: нет, Оуррра, мы не можем.
▄
Прости, что мы не переехали в другую квартиру, прости, что у нас никогда не было собаки или кошки, прости, что мы не сняли квартиру под нами, когда она освободилась, чтобы остаться в Нью-Йорке этим летом и ухаживать за садом, вместо того чтобы лететь в Мехико — обо все этом я писал в письмах к Ауре. Прости, что так вышло с твоей матерью, писал я. Прости, что не знаю, что с ней делать. Прости, что я не смог ей помочь. Чем я вообще могу помочь твоей матери, разве что броситься с Бруклинского моста? Когда примерно через год после твоей смерти я вернулся в Мехико, мне рассказали, что все в университете считают меня виновным в твоей гибели. Если в университете упоминают тебя, меня или нас, то кто-нибудь обязательно скажет: э, никто так и не знает, что там на самом деле случилось. Там что-то произошло, говорят они, но никто не знает что, все это крайне загадочно, он даже не дал показаний, знаете ли, сбежал из страны, так и не сделав заявления, очень подозрительно. Даже твой крестный отец, поэт, профессор литературы, соглашается с этим, потому что боится власти и влияния твоей матери и Леопольдо в университете. Он даже отказался принять участие в памятных чтениях, устроенных твоими друзьями через год с лишним после твоей смерти, только потому что там собирался быть я; он сказал: я должен быть верным Хуаните. Твой крестный, чтобы продемонстрировать Хуаните свою лояльность, сказал, что не прочтет стихотворение и не скажет нескольких слов о тебе во время чтений, потому что там буду я. Почему бы им не сойти с ума? Почему бы ненависти и поискам виноватого не свести их с ума? Самое большее, что я могу сделать, — это попытаться понять и посочувствовать им, возможно, это вообще единственное, что в моих силах.
Последний прочитанный Аурой роман, который она начала в Мехико и закончила за день до нашего отъезда на побережье, был «Короткая жизнь» Хуана Карлоса Онетти. Теперь книга была со мной в Бруклине, но я никак не мог заставить себя взяться за нее. Зато я прочел «Пропащего» Томаса Бернхарда и «У подножия вулкана» — испещренных пометками, сделанными ее рукой. Я был счастлив снова погрузиться в художественное произведение после долгих месяцев копания в литературе про горе и траур, а также книгах, которые, как я предполагал, помогут мне лучше представить себе образ радикального французского психиатра и его лечебницы из романа Ауры. Однажды, раскрыв «Пнина», я с нетерпением поспешил по запутанным следам зеленых чернил Ауры, не добравшись еще и до конца первой главы, я почувствовал волну ее смеха, зародившуюся глубоко внутри и выплеснувшуюся наружу через разомкнутые губы, когда бедняга Пнин понял, что сел не на тот поезд до Кремоны; следующий взрыв смеха: белка добивается, чтобы Пнин нажал на кнопку фонтана с питьевой водой. Аура брала в маленькие зеленые скобочки такие фразы как «зашелестел ветер» и «под серебряным солнцем», а на полях мелко писала «погода». Зачем выводить это слово напротив каждого описания погоды в романе? Я знал зачем. На семинаре ЗАП дал всем задание вести дневник погоды. Замечать погоду, описывать погоду не так просто, как кажется. Обратите внимание, как погода используется в литературе. Каждый день того семестра — параллельно с работой над диссертацией — Аура методично фиксировала погоду в своем блокноте. Позже Венди рассказала мне, что из всех слушателей семинара только две студентки ежедневно делали записи: она и Аура.
Иногда это было подобно божественному дару — вспомнить и физически ощутить смех Ауры внутри себя. Я никогда не мог намеренно вызвать в себе этот смех, но иногда, как за чтением «Пнина», он просто накатывал, будто прилетая из мира духов. Я лишь мог приподнять уголки губ настолько, чтобы щеки округлились и стали похожи на два очищенных яйца всмятку — так я создавал иллюзию безмятежной улыбки Ауры, словно не просто накладывая трехмерную проекцию ее черт поверх моих, а воспроизводя часть ее сущности, куда более мягкой и нежной, чем моя собственная. Я непроизвольно теребил большим пальцем основание безымянного, ожидая ощутить там холод кольца; кольцо свободно болталось, и каждый раз, бросая что-то в мусорную корзину, я придерживал его большим пальцем; я дотрагивался до голой кожи, и меня охватывала паника, но проходила в ту секунду, когда уставший мозг посылал мне ворчливое напоминание: опять? Я снова должен тебе это повторить? — о том, что кольцо висит на цепочке у меня на шее вместе с кольцом Ауры.
В те недели после произошедшего со мной несчастного случая я также пытался перечитать «Лорда Джима»[41]: я думал, что пришло мое время делать то, что делает Лорд Джим, исчезнуть вместе со своим стыдом и разбитой жизнью, спрятаться в каком-нибудь отдаленном месте, где, быть может, я смогу начать все заново. Но теперь книга озадачила меня. Страх смерти, который руководит героями, гротескная глупость, которую даже нельзя назвать трусостью, несмешные клоуны — люди, под покровом ночи пытающиеся спустить на воду лодку, чтобы сбежать с малайского паломнического судна, которое они ошибочно посчитали тонущим, обманув самих себя; один из них так запаниковал, что упал и умер от сердечного приступа — судьбоносный прыжок Джима в спасательную шлюпку, — все это напомнило мне о том случае в больнице, когда отец спустя неделю или около того после выхода из комы, вырвал зонд, трубку подачи кислорода и капельницу из руки, перевалился через перила кровати и плюхнулся боком. Он лежал, пытаясь бежать на месте, пока мы с медсестрой прижимали его к полу и крепко держали, его рубашка задралась, сморщенный стариковский член беспомощно болтался; пытаясь справиться с отцом, я был потрясен дикой звериной энергией, с которой он пытался убежать от смерти. Вместо того чтобы восхититься его волей к жизни — если это была именно она, — я испытал отвращение, стыд, хотя, возможно, я и был впечатлен, потому что это было действительно впечатляюще, а стыд появился позже, после того как сестры за руки привязали его кожаными ремнями к кровати, будто какого-то буйного психа. Истерику моего отца — вот что напомнили мне панически боявшиеся смерти моряки из «Лорда Джима». И я помню разговор, состоявшийся у нас с матерью в отцовской палате сразу после этого случая; мы и предположить не могли, что он протянет еще целых четыре года. Тогда я спросил: почему он так боится смерти? И мама спокойно ответила: кто знает. Таков уж твой отец, он вообще-то всегда был ипохондриком. Я задумался, может ли страх смерти быть проявлением ипохондрии? Спустя пару минут, когда я снова погрузился в привычную больничную жизнь, то есть уставился в пространство, мама сказала: я не боюсь умирать. Она сделала это признание со смущенным смешком и стыдливым, но сдержанным выражением лица. Я сказал: я тоже. Не так, как он. Мы вряд ли подразумевали, что не испугаемся встречи со смертью, но то, как эта встреча произойдет, мама, похоже, уже продумала. Не жуй с открытым ртом, как отец. Не чавкай, как отец. Не бей детей, как отец. Не отказывайся трахать жену, как отец. Не паникуй и не трусь перед лицом смерти, как отец. Я многого боялся, был ли я только поэтому похож на отца? Была ли боязнь собак связана со страхом смерти? Безусловно, не только ужас перед болью, но и первобытный страх быть разорванным на части и съеденным злобными тварями, когда у них в ноздрях пузырится твоя кровь, а морды умыты ей. Когда мне было около трех, я гулял в саду перед домом и, подойдя сзади, дернул за хвост собаку, короткошерстную серую дворнягу с похожим на кобру хвостом; собака зарычала, развернулась и бросилась на меня, прокусив мое предплечье, а я лежал под ней и кричал, пока на выручку не прибежал сосед с граблями наперевес; у меня все еще видны тонкие шрамы, и с тех пор, хотя сам я люблю собак и у меня их было несколько, угрожающие мне псы, которые лают, рычат или пытаются атаковать, поднимают внутри меня волну страха, адреналина и паники; однако с ранней юности я научился мастерски это скрывать: практически всегда, вместо того чтобы пуститься в бегство или забраться на ближайшее дерево, под аккомпанемент бешено бьющегося сердца, мне удавалось с напускным хладнокровием пройти мимо. Спустя примерно неделю после смерти Ауры Одетта и Фабиола пригласили меня в свой загородный дом в Малиналько, чтобы я смог немного отдохнуть и отоспаться. Каждый день я отправлялся на длительные прогулки по окрестностям, по грязным дорогам вдоль кукурузных полей и пастбищ, перепуганных крестьян, некоторые из них ехали верхом, вероятно, они никогда не видели такого, как я: среднего возраста, сравнительно светлокожего, очевидно не местного, бродящего по их дорогам с лицом, изрезанным стрелами катящихся слез, иногда завывающего, как дитя; готов поспорить, что, заслышав мое приближение, фермеры принимали мой плач за хохот и выглядывали посмотреть, над чем смеются. Во время этих прогулок я заметил, что ни преследовавшие меня собаки, одинокие псы или своры, с рычанием и угрожающим оскалом преграждавшие мне путь, ни взбешенный лай, доносившийся из-за калиток и оград, больше не вызывали у меня страха; каков бы ни был механизм, запускавший ранее сигнал тревоги, теперь он был отключен.