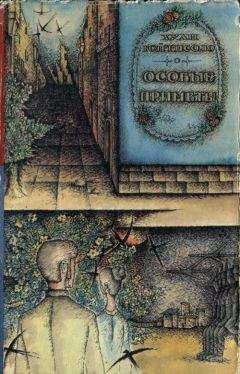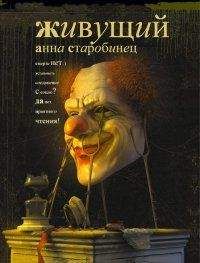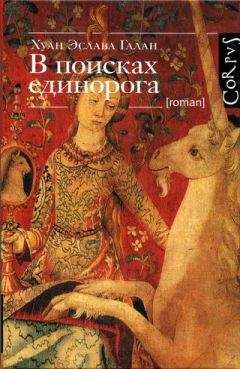Последствия случая в курзале не замедлили сказаться. На следующий день, когда Антонио переводил особенно темный кусок из книги по философии, к нему домой явились два жандарма и грубо велели ему следовать за ними в жандармерию. Дело близилось к вечеру, и, когда они шли селением, люди на улицах останавливались и глазели на них, а с террасы одного кафе кто-то сказал наставительно: «Так ему и надо. Пусть расстреляют».
Лейтенант встретил Антонио хмуро: на этот раз его обращение немногим отличалось от обращения тех, кто избивал Антонио в полицейском управлении, и Антонио почувствовал облегчение при мысли о том, что комедия, которую разыгрывали обе стороны, раз и навсегда кончилась.
— Рамирес, — сказал лейтенант. — До сих пор мы считались с тобою, но снисходительность имеет границы. Твоя вчерашняя выходка переполнила чашу терпения: каждый порядочный человек осудил бы твой возмутительный, хулиганский поступок. Если ты намерен извиниться перед доном Гонсало…
— Ни за что на свете, лейтенант.
— В таком случае правила для тебя меняются в корне. С сегодняшнего дня ты будешь отмечаться дважды в день, и ноги твоей не будет ни в одном баре, ни в одном публичном месте. Если ослушаешься — пожалеешь, понятно?
— Да, лейтенант.
— А для начала сегодня же сбрей бороду, или я сам обрею тебя на свой лад. Испания — это тебе не Куба… А будешь петушиться, гляди — как бы перышки не общипали.
— Да, лейтенант.
— Мои люди не сведут с тебя глаз, а что тебя ожидает — сам знаешь. Так отделаем — родная мама не узнает.
Он грубо простился, но, когда Антонио шел через двор казармы, послал капрала вернуть его обратно.
— Это еще не все, Рамирес. Все уже знают о твоей выходке, и народ сурово осуждает твое поведение. Если кто-то вздумает накостылять тебе, мы вмешиваться не станем.
— Это угроза?
— Понимай как знаешь.
Вернувшись в селение, он вошел в первую же парикмахерскую. Борода для него не имела никакого значения теперь, когда ясно обозначились рамки заключения, и он снова почувствовал себя свободным человеком в стенах просторной, благоустроенной тюрьмы. Фермин получил приказ не здороваться с ним, и, когда они случайно сталкивались на улице, он лишь улыбался Антонио. Утром и вечером Антонио приходил отмечаться в казарму, а в часы, свободные от занятий переводом, он брал велосипед и ехал полежать куда-нибудь на пляж, счастливый тем, что может затеряться на несколько часов в упрямом рокоте волн, которые тонким узорным кружевом бросались на песок.
Во время одной из таких бесцельных прогулок, незадолго до рождества, он шел по тропинке в сторону Калабардины. В ожидании тунца, который появляется у берегов к весне, вся снасть с судов была снята и покоилась на складах предприятия, такая же декоративная и бесполезная, как и ее безработные хозяева, и одетые в траур серьезные женщины, и чумазые печальные детишки. Ослабевшее зимнее солнце отсвечивало на рыбачьих хижинах, и, сидя на уступе на другом конце залива, Антонио в тоске смотрел на борозду, вспаханную рыбачьими судами на поверхности моря, на корпуса суденышек, вытащенных на берег и лежащих там, словно обескровленные, безжизненные дельфины. Он был далек от этого, и в то же время это странно его волновало. Сердце его сжалось от щемящей печали, и, когда он поднялся, на глазах у него были слезы.
Обратно, чтобы не наткнуться на жандармов, он возвращался теми же глухими тропинками. Внезапно на его пути встал маленький человечек, который, похоже, поджидал его за поворотом дороги в зарослях агав.
— Привет, товарищ, — сказал он. — Узнаешь меня?
Взлохмаченные седые волосы, глаза как головешки, выдающийся вперед подбородок — все это показалось смутно знакомым. Антонио поколебался и ответил:
— Не знаю. Не могу вспомнить.
— Я Морильо, товарищ твоего отца по оружию.
Смертный приговор, отмененный в самый последний момент, пятнадцать лет тюрьмы, горести и унижения сделали из бывшего главы местного сельского комитета старого, изношенного человека, превратившегося, как и множество других по всей испанской земле, в расплывчатую тень самого себя.
— Я давно хочу поговорить с тобой, товарищ. Несколько раз писал тебе и назначал свиданье в полночь на развалинах замка, но ты не пришел.
— Я ничего не получал, — сказал Антонио.
— Настал момент действовать. Вся страна готова подняться и ждет только, чтобы мы взяли инициативу в свои руки… Как только получим приказ, мы, патриоты, уйдем в горы и откопаем спрятанное оружие, ты меня слышишь?
— Да.
— В каждом квартале созданы комитеты, занятые покупкой винтовок и пулеметов. Вчера ночью приходила подводная лодка наших и передала зашифрованное послание… Когда пробьет час, я дам тебе знать. А пока — молчание, и главное — бдительность.
Антонио ушел, бросив его один на один с его мрачным бредом, и вернулся в селение. До конца заключения оставалось совсем немного, и Антонио с беспокойством думал о том двусмысленном мире, который подстерегал его в конце срока, об искусительных хлопотах жизни, с виду, казалось бы, такой устроенной и благополучной. Он хотел бы не участвовать больше в игре и взять свою ставку, но игра, хотя и в новом, видоизмененном виде, продолжалась, и, как тогда, в курзале, помня о других донах гонсало, которые в будущем встретятся на его пути, он твердо знал (глубокая уверенность, точно пойманная птица, таилась у него в душе), знал, что нечто гораздо более сильное, чем он сам, заставляет его и всегда будет заставлять ставить в этой игре снова и снова.
В сад ворвался автомобиль. Вы втроем сидели на галерее, и отпечатанные на машинке страницы дневника наблюдения устилали плетеную скатерть из дрокового волокна, на которую несколько часов назад служанка подала вам кофе. Долорес вздохнула и поднялась.
Вечер обвел красноватой сияющей каймою горы, и посеребренные листья эвкалиптов застыли в головокружительном покое. Стремительные ласточки рассекали неподвижный воздух, задевая острыми клювами навес крыши. Поблекшая голубизна моря растворялась в небе.
Машина, ловко объехав игрушки, разбросанные по гравию, остановилась около террасы, и из нее вышли Рикардо, Пако и Артигас с выражением одинаковой предельной усталости на лицах. Заметны были следы ночи, явно проведенной без сна. Они крикнули Альваро, что идут купаться. И, поднимаясь по дорожке к пруду, Пако на ходу продемонстрировал блистательный стриптиз. За ними с лаем неслись собаки.
Вы тоже решили выкупаться. Долорес пошла к дому батраков искать своих племянников, а вы с Антонио разделись на галерее. Вы молчали, утомленные многочасовым разговором. В образе прошлого, который мало-помалу перед тобой вырисовывался, оставалось еще множество пробелов, заполнить которые было трудно, и ты испытывал беспокойство, словно оставил незавершенным какое-то важное дело. Возможно, что-то существенное проскользнуло у тебя между пальцами, и теперь все твои усилия ухватить его ни к чему не приводили. Прежде чем выйти в сад, ты выпил глоток ледяного фефиньянеса.
Твои друзья ныряли в зеленой воде, и их смеющиеся лица то и дело показывались на поверхности над камнями берега. Ты лег на открытом месте и стал ждать Долорес, погрузившись в плотный покой сумерек. Солнце только что скрылось за горами, и последний багряный луч умирал в ветвях пробковых дубов.
— В Барселоне жарища жуткая, — сказал Артигас.
— Тридцать восемь в тени.
— На площади Испании задержали англичанку в исподнем.
— Не англичанку, — уточнил Пако. — Англичанина.
— Слушай, ты часом не педераст?
— Какой педераст, — возразил тот, — скотоложец!
— Для меня все едино, — сказал Артигас.
— Кстати, — перебил Антонио, — а что с датчанками?
— Рикардо вчера вечером пригласил их поужинать. Спроси у него.
— Я-то при чем?! Это же ты трудился, язычник.
— Ты ли, он ли, но едят они за семерых, — сказала Долорес. — Заметил, как они очищали тарелки?
— Дания — слаборазвитая страна, разве не знаешь! — Пако показал пальцем на Антонио. — Вот ты, экономист… Что ты скажешь об испанском чуде?
Это как бальзам — ощутить прикосновение теплой воды, медленно вытянуть руки и плыть, затерявшись взглядом в бесцветном, без единого облачка небе. Рикардо, Артигас и Пако приехали побыть с тобою субботу и воскресенье, и благодаря их помощи ты верил, что сделаешь еще один шаг в познании и постижении фактов. Вся твоя жизнь теперь состояла в битве один на один с призраками прошлого, и от результатов этой битвы зависело, — ты это знал, — будет ли оплачен долг, который довлеет над твоим ограниченным, целиком зависящим от случая будущим.
Сознавая всю серьезность опасности, ты шел решительным шагом навстречу вполне вероятному бедствию.