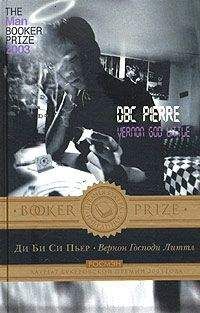– Ммм, ч-черт! Расскажи мне, что ты сделал с этими людьми, скажи мне, что тебе это нравилось.
Я не издаю ни звука.
– Ну, скажи! Скажи, что ты их убил!
Ноги у нее постепенно теряют гибкость, она отстраняется, и я принимаюсь шептать ей на ухо, пока она не расслабляется снова и не прижимает мою руку к бугорку между ног – сама. Я слышал про таких девчонок: еще и не про таких слышал.
– Ведь правда, Вернон, ведь правда, ты все это сделал ради меня – ради нас…
Я чувствую, как в голове у моего маленького приятеля назревает – и взрывается – яркая вспышка, я вжимаю его в простыню и тру вдоль жилок скомканной тканью.
– Да-а, – вырывается у меня со стоном, – я сделал это ради тебя.
Я продолжаю что-то шептать, но на меня снисходит новая реальность, гнетущая, как предчувствие гриппа. Как-то вдруг ее губы превращаются в резину, а свежий бриз – в сырые креветки и прогорклое, с металлическим привкусом, масло. Что-то не так. Она проворно перекатывается на край кровати. Она нагибается, и ее щелка ухмыляется мне сквозь влажный шелк – в последний раз. Я понимаю, что видел Тейлор Фигероа в последний раз. Мой мир расплывается лужицей у меня под животом, извергается реактивной струей, как будто клубок ужаленных змей протянули сквозь их же собственные пасти. И – тишина. И только медленно дышит медленно-ленивый океан, и на лице у меня остывают капельки пота с запахом карри и розового дерева. Тейлор натягивает шорты, подвязывает сандалии, встряхивает перед зеркалом роскошной гривой волос.
– О'кей! – говорит она куда-то в нагрудный карман жакета.
Распахивается дверь, и в комнату входят четверо мужчин. Я заслоняю глаза от ослепительного света и камер.
– Вернон Грегори Литтл? – спрашивает один из них. Типа – приехали.
Я смог бы вытерпеть полный коридор народу, и все на меня смотрят: если бы только одной из них была Тейлор. Но она не смотрит на меня. Ни полвзгляда. Она прильнула к плечу улыбающегося во весь рот оператора и слушает запись через наушник, подсоединенный к торчащим из ее жакета проводам.
Потом она хихикает, прямо в микрофон.
– Это та-ак заводит! Ты правда считаешь, что я смогу вести настоящее шоу? Типа, господи, Лалито…
Меня уводят прочь от ее нетерпеливо ерзающей жопки, на которой, должно быть, еще не успели обсохнуть ни моя влага, ни мои мечты. Вслед мне по коридору несется ее беззаботный смех. Люди у входа в отель замолкают, когда мимо них проводят меня, в браслетах и ножных кандалах. Слышно, как в холле шуршат под струями воздуха из кондиционеров пальмы, так становится тихо. Тихо и стыло – не мне вам говорить. В аэропорту меня ждет самолет. Сразу видно, что в этот репортаж кто-то вложил лишнюю пару долларов. Типа, не так-то просто будет сказать какому-нибудь крутому телеведущему, что, мол, извините, произошло досадное недоразумение. Телеведущие всего мира просто усрутся со смеху, если ты попытаешься втереть им что-нибудь в этом духе. Я пытаюсь придумать себе какой-нибудь пирог со сливками. И ни хуя подобного у меня не выходит. Вместо этого я захлебываюсь авиационным дезодорантом и прощальным воем турбин, как когда-то давным-давно, когда бабуля уезжала на север. В соседнем терминале видно, как засидевшиеся за время полета пассажиры неловко шаркают к раздаточному транспортеру, получать багаж. А я запаян в металлической трубе с двумя судебными исполнителями по бокам, которые выбирают темы для разговора но принципу максимально возможного контраста с тем говном, в котором я сижу по уши. Про машину, про ужин в ресторане, про общую политическую ситуацию. Один из них пердит.
Я просто сижу и смотрю, как огонек на конце крыла освещает ночную тьму. Через пару часов ритмичных красных вспышек, что очень долго, мы идем на снижение сквозь раковые опухоли облаков, которые висят над международным аэропортом в Хьюстоне. Когда самолет заходит на посадку, в иллюминаторе на какой-то миг возникают сгрудившиеся у взлетно-посадочной полосы восемь тысяч патрульных машин, с мигалками, которые отражаются на влажном от недавнего дождя бетоне, а еще там, наверное, надрываются сирены и сотовые телефоны репортеров. И все ради маленького Вернона, Вернона Литтла. После посадки самолет поворачивает к каким-то трибунам, установленным вокруг пустующей секции на самом краю аэродрома, у периметра. Мы останавливаемся у самых трибун, и меня даже сквозь иллюминатор насквозь пронизывают вспышки от сотен работающих фотокамер. Просто физически ощущаешь, как сейчас у всей этой толпы скакнул пульс: вот он! Сегодня вторник, ровно три недели с того дня, как наши жизни завертелись в адском барабане. Хотя на часах всего четыре утра, можете быть уверены, по всей стране народ прильнул к экранам телевизоров. Вот он, сука! Ату его!
Судебные исполнители сводят меня по трапу, и мы торжественным маршем проходим перед трибунами. За трибунами забор, а за ним – орды негодующих людей, того самого типа, каких показывают всякий раз, когда нужно показать негодование. Меня подсаживают под руки в заднюю дверь белого фургона, где сидят и ждут какие-то люди в лабораторных комбинезонах и шлемах. Они привязывают меня к креслу, и мы едем в город в сопровождении эскорта: если собрать все полицейские машины земного шара, то ровно половину выделили, чтобы сопровождать нас. Все вертолеты земного шара летят над головой и светят вниз прожекторами, как будто это самая охуительная голливудская премьера года, как будто нам сейчас дадут Оскара за Самый Всеобъемлющий Пиздец.
И я прихожу к одному интереснейшему умозаключению: патрульные машины далеко не везде и не всегда врезаются во что попало. Ничего подобного. И в голову сами собой не лезут простенькие идеи насчет того, как отвлечь копов, а самому под шумок сделать ноги, пока машины сталкиваются пачками и сносят с лица земли мосты и прочую херню. Скажу вам больше: как только вас усадят в патрульную машину, в вас незамедлительно вселяется уверенность в том, что ничего подобного не произойдет. И водят они чертовски уверенно, имейте в виду. И – по прямой.
Сегодня все повеселились от души: беспристрастному и справедливому суду, который ожидает меня в недалеком будущем, показали, какой я в действительности наивный парень. А потом зашвырнули вверх тормашками обратно в ад. И не домой, а сюда, в графство Харрис, где происходят все самые крутые события.
Оказавшись в камере, я закрываю глаза и пытаюсь вкратце прокрутить всю свою жизнь. Если за точку отсчета брать мою собственную точку зрения, то выйдет, что я вовсе даже и не в дерьме. Напротив, я всего лишь парнишка из публики, который краем уха услышал о чьей-то беде, может статься, о том, что какой-то другой парнишка взял отцовское ружье, притащил его в школу и на хуй перестрелял половину своих одноклассников. Бог знает, как людям в голову приходит подобная хуйня. Может быть, в конечном счете я и окажусь тем парнем, который всего лишь слышал обо всем этом. Слышал об одном бедном ебанашке – может быть, тихом таком, из которого слова не вытянешь, с мыслями в голове и все такое, – который всю жизнь просидел на задней парте. Пока не приволок в школу ружье. Я буду парнем, который слышал об этом, с правом на роскошно-скользкую возможность выбора: сочувствовать убийце или места себе не находить от горя, а то и вовсе сделать вид, что ему все по барабану, как часто делают люди, которых лично не касается случившаяся по соседству хуйня. Именно такой день я прокручиваю у себя в голове. По-прежнему полный самых разных, сплавленных в единую неразволочню вещей, и собак, и прочего, но только я здесь выступаю в роли стороннего наблюдателя, я покупаю мороженое в дальнем конце улицы, мне плевать на лихие молодые годы, я становлюсь таким же, как все: занудой, с привычкой раздражаться но мелочам.
Я пытаюсь заснуть, но тут в моем ряду камер начинают просыпаться другие сидельцы. Один из них слышит, как я вздыхаю, и шепотом проталкивает сквозь собственную дверь пару слов:
– Литтл? Да ты, сука-блядь, у нас теперь звезда!
– Ага, конечно, – отвечаю я. – Расскажи об этом судьям.
– Блядь, да тебе теперь выкатят охуительнейших адвокатов, какие только есть на свете, слышь, об чем я маркую?
– Мой адвокат даже по-английски-то ни пизды не понимает.
– Хуй там, – говорит мой сосед, – этого мудилу они уже на хуй унасекомили, ушел, блядь, в историю. Я тут видел по телику, как он распинается, хуё-моё, мол, он все еще в деле, только это все пиздёжь, он даже зарплату больше не получает. За тебя теперь взялись такие мамонты, просто ёбу дашься, слышь, что говорю?
Потом этот парень постепенно затыкается, и мне удается урвать час беспокойного сна. Потом приходит охранник, чтобы посредством сложных маневров доставить меня к телефону в конце коридора. Он горделиво проводит меня мимо всех остальных клеток, таким, типа того, парадным маршем, и все буквально приливают к своим дверям, чтобы на меня посмотреть.