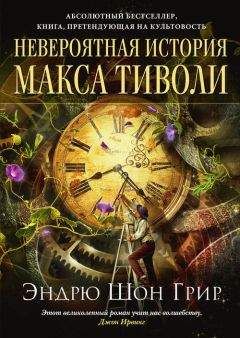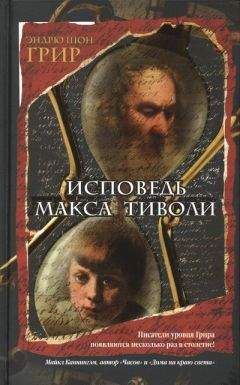— Почему он с нами так поступил?
Старая Элис, старая безнадежная Элис. Она, как матрешка, сочетала в себе жену, женщину и девушку.
— Прости. Прости за дурацкий вопрос.
— Ничего, все в порядке.
— Господи, я даже спать не могу. Знаю, ты тоже полуночничаешь. Я слышала твои шаги. Сегодня. Это все потому, что мы так и не поняли, да?
— Вряд ли.
— Он привез тебя. Я рада. Думаю, он хотел, чтобы о тебе позаботились.
— Наверное.
— Но он поступил жестоко по отношению к тебе.
Я порой так злюсь на Хьюго!
— Не надо, не сердись на него.
— Прости. Конечно же нет. Я очень его любила, понимаешь.
— Я знаю, почему он так поступил.
Твои глаза, твои прекрасные восточные глаза. Я видел их ошеломленными от укуса осы, полными смертельного ужаса от происшествия в Сан-Франциско. Не помню, чтобы видел их влюбленными. Честное слово, дорогая. Я мог сидеть и смотреть на светлые тени в стакане, на беспокойный сумрак за окном и ждать появления слезинки в уголке твоего глаза. Ты заплачешь, любимая. Почему он так поступил? Все просто: потому что я попросил его об этом. Потому что всю свою жизнь он любил — любил меня — и хотел всего лишь быть рядом, а я прогнал его. И приказал не возвращаться. И он не вернется. Никогда. Почему он так поступил?
Потому что думал, будто никто его не любит.
И вот ты передо мной, главная виновница. Приз, который я получил за убийство. Ты, Элис, и Сэмми в придачу. А Хьюго потерян навсегда. Я не могу с этим жить, но должен. Каждому рано или поздно приходится делать чудовищный выбор.
— Серьезно? — спросила ты.
Я мог сказать тебе правду. Однако было слишком поздно. И я сказал тебе другое, менее жестокое, то, что ты и хотела услышать.
— Думаю, он покончил с собой из-за давней любви.
Ты фыркнула и посмотрела на молоко. Ты услышала то, что хотела. Думаю, теперь твоя бессонница пройдет.
— Можно тебя поцеловать? — спросил я.
Я не пытался изменить голос. Твое лицо заострилось, губы напряглись. Ты меня узнала? Больше это не имело значения.
— Мама? Элис?
— Да, Хьюго?
— Можно тебя поцеловать?
Элис пристально взглянула на меня:
— Ну, давай.
Извини, если я задержался дольше, чем следовало послушному сыну. Подумай о вечной любви и о мальчишеской боязни темноты. Подумай о печальных расставаниях.
На следующий же день я украл у учительницы ручку. И стопку тетрадей. В тот апрельский день, сопя в песочнице, я принялся записывать все то, что вы прочитали.
Иногда я думал об осе. Той, которая укусила мою Элис. Полосатая, словно тигровый глаз, она выросла в улье Саут-Парка. Теперь она мертва, раздавлена сорок лет назад. Однако порой я думаю, что при жизни она следила за прекрасной Элис в окно гостиной. День за днем она жужжала и билась в стекло, глядя, как моя девочка читает плохие книжки, причесывается или поет перед трюмо. Оса не собирала нектар, не строила улей, у нее вообще не было иной цели, кроме как надоедать и погибнуть от руки хозяев. Мне нравилось это никчемное насекомое. Оно жило, только чтобы видеть Элис. И в свои последние дни — а жизнь ос коротка — она подобралась к дому, залетела на светлое крыльцо, описала в воздухе пару кругов и в последний раз в жизни упала. Замертво, разумеется. Пятнышко коричневой крови. Смелый и глупый поступок, красивый поступок — отдать жизнь ради любви.
Поэтому я должен во всем сознаться. Я описал все как было, и тем не менее, пытаясь перечитать свою исповедь, понял, что сказал далеко не все. Забыл рассказать о родинке на шее Элис. О том, как мы с женой катались на побережье в новом «олдсмобиле» и хохотали. О Хьюго, который постучался в дверь одной из ферм Кентукки, дабы купить сельской ветчины. Эхо колокольчика разносилось по дому, а мой друг стоял, восхищенный поднявшимся перезвоном. Что ж, пусть будет как есть. Я описал все, что мог.
Жизнь неминуемо заканчивается. Здесь, на кладбище, я дописываю последние слова. Элис и Сэмми бродят среди надгробий, остались только трава да я, ну и муравьи с человеком, которого я убил. По закону, его надо было хоронить в Кольме, там, где его семья и сын, однако я захотел похоронить его здесь, в компании самоубийц, язычников и клевера. Уверен, он бы не возражал.
Я знаю, что поступил верно. Каждую ночь я думаю о нем — о первом обыкновенном мальчике, с которым я познакомился, о моем сыне, отце, лучшем друге, единственном человеке, который любил меня всю жизнь, — я думаю о нем каждую ночь. И всякий раз мое тело немеет — сорняк, вырванный с корнем.
Можете сходить на могилу, если хотите. Налево до конца, через толпу местных статуй негодяев и ангелов из черного гранита. Хьюберт Альфред Демпси. Лейтенант военно-морского флота, ветеран испано-американской войны. Дата рождения и смерти. Эпитафия: «Здесь покоится лучший друг». Тут не сказано, что когда-то в детстве он жевал бумагу.
Пора идти. Доктор Харпер выписал мне впечатляющее количество таблеток, розовых и голубеньких, мой день рождения еще не окончен, и, пока меня не поглотила истинная болезнь, надо завершать путь, пожалуй, в цвете индиго. Думаю, сегодня я покончу с этим. Я собираюсь спрятать свои записи на чердаке в коробке с пометкой «Макс». Затем пробраться к берегу и залезть в каноэ. Там я выпью джин и таблетки. Таково мое право именинника.
Мои жена и сын гуляют среди могил героев Гражданской войны. Моей маме понравилось бы водить сюда сына! По надгробиям скачут кузнечики, над рекой перешептываются клены, а в небе я, к своему изумлению, вижу бледный одуванчик луны. Откуда-то доносится веселое щебетание детей, играющих в кошки-мышки, ветер приносит мне только нежные обрывки их радостного визга. Они будут кричать и вопить, пока не станут слишком взрослыми для подобных забав, но тогда они еще больше превратятся в детей, довольных, невоспитанных, буйных и так далее. Однако среди них не будет ни одного такого, как я.
Сэмми машет мне рукой. Он что-то кричит, но я ничего не слышу. Наверное, он нашел могилу старого солдата. Прощай, Сэмми. И ты, Элис, глядящая на меня из-под ладошки. Не забывайте: я ни на минуту не прекращал вас любить, всю мою жизнь.
Завтра вас разбудит телефонный звонок. Спросонья ты не сразу поймешь, в чем дело, и наденешь очки, будто в них ты лучше слышишь, а тебе просто сообщат о найденном теле. Тело твоего только что приобретенного сына лежит в лодке среди камыша. Ты остолбенеешь, наспех оденешься, натянешь свитер и прыгнешь в машину. Полицейский угостит тебя кофе и попытается утешить. Впрочем, туманным утром это уже будет не важно. Тебе дадут пакет с моими вещами. Покажут тело под простыней. Откинут простыню. Там буду я, нагой, как в нашу первую брачную ночь, распухший от воды, кожа покроется синими пятнами. Не грусти. Жизнь коротка и полна горечи, и все же я люблю ее. Кто знает — почему? Не разглядывай меня долго, я напомню тебе о Хьюго, и все начнется сначала, привычная печаль уже о новом человеке. Отвернись, Элис. Загляни в сумку, которую тебе дадут, там будет кулон. «1941».
Ты все поймешь. Не грусти.
Однажды ты найдешь эти записи. Вряд ли ты станешь убираться на чердаке; скорее будешь искать что-нибудь из прежней жизни, чтобы показать новому мужу. Ты отодвинешь фотоальбом и увидишь коробочку, надписанную детским почерком — «Макс». Ты перевернешь желтые страницы, полные песка и травинок, и тебя захлестнут чувства: ненависти, нежности или каких-нибудь еще старческих переживаний. Надеюсь, когда-нибудь ты покажешь это Сэмми, и раскроется маленькая тайна его детства — тайна того странного мальчика, братика на год, которого быстро похоронили и больше никогда не упоминали. Как никогда не упоминали о твоем отце. Если дневник попадет к доктору Харперу, а я думаю, так и будет, уверен, он объявит меня сумасшедшим и скажет, что это писал не мальчик, а мошенник, определенно твой бывший муж, но уж никак не сверхъестественное существо. Невероятно. Возможно, он опубликует их в соавторстве с приятелем из «Голдфорест-хаус», моим древним психиатром, издаст как анализ странной болезни — вечной любви.
Мне пора.
Взрослей и мудрей, любимая. Воспитай из нашего сына хорошего бойскаута и верного любовника, научи его мудро распоряжаться наследством, дай образование и не пускай на войну. Пусть твои волосы поседеют, а бедра перестанут умещаться на стуле, пусть грудь отвиснет, и пусть новый муж пребудет с тобой до конца. Не оставайся одна. Одному быть очень тяжело.
Моего тела могут и не найти. Вода непредсказуема. Я могу выпить яд, выйти из порта и больше никогда не пристать к берегу. Я буду лежать на подушке и смотреть на звезды. Думаю, таблетки подействуют минут через тридцать, и если я верно рассчитал время смерти и меня не стошнит в черную воду, то над моей головой проплывут яркие созвездия, а я не буду ни плакать, ни оплакивать, поскольку я покидаю мир навсегда. Если повезет, я стану как волшебница Шалот в поэме. Я буду плыть по течению, пока не попаду в реку, медленно, неделями, я буду лежать в полудреме, еще живой, молодеющий с каждым часом, а река понесет меня в центр, мальчика, ребенка, пока я не стану младенцем, плывущим под звездами, дрожащим младенцем с самой естественной мечтой — погрузиться в темную пучину вод.