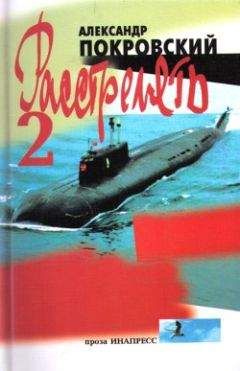– Так, значит, все-таки едешь?
– Поеду.
– Э-э-э… нехорошо там. По дороге турки вагоны бьют.
– Но ведь там же сейчас в основном азербайджанцы едут.
– А какая им разница?
Тесть и теща у меня армяне. Во время сумгаитских событий они неделю не выходили из дома. Хлеб им приносили соседи. Армянам в Баку хлеб не продавали или продавали, предварительно на него плюнув. В январе и русским будут торжественно плевать на хлеб. Многие русские уезжали еще с лета.
– Мы во вторую очередь пойдем, – говорили они армянам, – сначала вас выгонят, потом за нас примутся. Бить не бьют, но скоро начнется.
Когда-то вечерний Баку был очень красив. Особенно летними вечерами. Было что-то праздничное в его неторопливом вечернем увядании – этакий арабский праздник прохлады; днем город плывет в мареве, а вечером все оживает, люди идут по бульвару, улыбки-фонари-фонтаны… Так, во всяком случае, было. Сейчас Баку очень торопится: прохожие огни, машины – все это движется в ускоренном темпе, и кажется, все это движение в любой момент готово к резкому изменению своего направления. Люди более всего напоминают овчарок: при встрече они вскидывают голову и какое-то время внимательно рассматривают подходящего.
Вокзал – суетлив, горяч, бестолков и благоухает вонью; как всегда, неизвестно, с какого пути отправляется поезд, как всегда, выясняется, что он уже десять минут стоит перед тобой, но нигде не обозначено, что именно он отправится до Кафана.
– Ничего, ничего, – говорят носильщики, – садитесь, этот пойдет.
В кафапском поезде собраны самые плохие вагоны: они разбиты, без стекол, в купе – запах устоявшейся кислятины человеческих лежек, в туалетах – дикие, разбитые корыта унитазов. Мухи, по-моему, кочуют из Баку в Кафан и обратно и чудесно размножаются по дороге. На верхней полке я нашел хорошо сохранившийся скелет курицы. Скелет полетел в окно. Поедем с открытым окном, от духоты и зловония за 16 часов можно околеть. До отправления мшгут двадцать, а вагон все еще пуст. Интересно, идет ли именно он до Кафана, или я сел не туда? Я прошелся по вагону и в одном купе обнаружил пассажирок—это армянки; видно по светлым волосам, по одежде и по тому, что они говорят на русском языке, азербайджанки говорили бы по-азербайджански. Армянки пугаются моего неожиданного появления и успокаиваются, как только я заговариваю по-русски. Они сообщают мне, что точно – этот поезд идет до Кафана. Я возвращаюсь к себе и усаживаюсь у окна. Раньше этот состав был битком набит армянами и азербайджанцами. Сейчас и те, и другие ездят только по острой необходимости. Хорошо бы, чтоб в моем купе вообще никто не ехал. За десять минут до отхода поезда появляются мои попутчики – трое азербайджанцев.
Я сидел у окна и наблюдал за ними: двое – толстые, шумные, потные, в тесных костюмах и галстуках, несмотря на жару, один лысый, другой с волосами, третий – худенький, небритый, похожий на студента. Все говорят на азербайджанском языке, и говорят они на нем с какой-то нервной гордостью, радостно и торопливо кивая при ответах. Увидев, что я не понимаю, спросили по-русски:
– Извините, а вы кто по национальности?
После этого все трое разом застыли, и тут я понял, что вся эта их радость должна была просто скрыть напряжение, теперь уже разлившееся по купе.
– Русский, – ответил я с усилием. Оказывается, очень трудно говорить, когда собеседник так напряжен.
С этого момента всякий разговор с новым человеком на пути между Баку и Кафаном будет начинаться с этого вопроса. То, что я замешкался с ответом, от них не укрылось; услышав, что я русский, они выдерживают паузу, склонив голову набок, словно проверяют звучание фразы.
– А зачем вы туда едете? В командировку?
– В отпуск.
Напряжение не спадает. На меня смотрят с нескрываемым интересом, с сомнением переглядываясь. В этом переглядывании есть нерешительность, но это нерешительность перед нападением.
– У вас там родственники?
– Друзья. Пауза, пауза…
– Ваши друзья – армяне?..
– Да.
Напряжение, кажется, достигло своего пика. Я заметил, что во время напряжения шея у вопрошающего становится чуть-чуть толще. Наконец лысый спрашивает:
– А сами вы, извините, откуда будете?
– Из Ленинграда.
– А как вы относитесь к тому, что сейчас происходит в НКО?
– А кем?
Тут они не выдерживают и начинают сразу все;
– …армяне …Они всех купили на свои деньги! Вот вас в Баку кто-нибудь тронул?
– … и не тронет! Вот в соседнем купе едут женщины-армянки, и их никто не трогает, а если б азербайджанские женщины ехали в Армении, их бы выбросили из вагона. В Ереване уже ни одного азербайджанца не осталось, а в Баку сколько армян живет, и их не трогают и не тронут.
– Нет! Просто мы – мирный народ! Мы не армяне! Они – не мирные люди! Вы знаете, мы же с ними родственники! Да, многие породнились, а теперь мы к ним не ходим.
– А кем вы работаете?
– Они резали наших детей! Уши резали, нос, голову! Знаете, в Карабахе после землетрясения французы-спасатели нашли трубу, заваренную с двух сторон, разрезали ее, а там азербайджанские дети! Французы увидели это и сразу уехали, не стали им помогать.
– …э-э-э …эти армяне всех купили. У них, знаете, сколько денег? Мешки! Сейчас в НКО забастовки, никто не работает, а деньги все получают. Откуда у них деньги? Вы знаете, и в Сумгаите все делали армяне.
– ?..
– Да-да, они ходили и резали армян. Один армянин зарезал четырех человек. Знаете, какие они жестокие? Как фашисты! А наши даже прятали армян под кроватями.
– Ты знаешь, – говорит тот худенький, небритый, может быть студент, переходя в запале на «ты», – их три миллиона, а нас – семь! Мы, весь народ как один, встанем и пойдем и умрем за нашу землю! Как один человек, – говорит он и поднимает вверх руку со сжатым сухоньким кулачком, и глаза его горят, и мне вспоминаются те, лысые, голые по пояс, крепкие, как кегли, которые штурмовали с пеной на губах армянские кварталы.
Поезд отошел в полночь, говорили мы до трех, а потом они выяснили, что у меня жена – армянка, и замолчали, сказав перед этим что-то друг другу. Они смотрели в пол и улыбались, словно сожалели о потраченном на меня времени, качали головами и говорили: «Нет-нет, ничего, не бойся», – а я говорил, что не боюсь. «У нас есть азербайджанская пословица, – сказали они, – кто твоя жена по национальности, такой ты человек и есть. Нет, нет, ничего, не бойся».
Мы легли спать. Окно в купе оставалось открытым, и, прежде чем заснуть, я успел подумать: «Сейчас завернут тебя, Саня, в одеяльце и выкинут в окошко, и никто тебя в этой степи не найдет». А мимо окна с грохотом летела ночная степь, черная степь без огней, тело мое моталось на узенькой полке, а в голову лезло: «Завтра будет утро, утро будет завтра…»
Утром я проснулся чуть позже моих ночных собеседников. Я открыл глаза и увидел, что эти милые люди, так любезно оставившие меня в живых, уже вертикальны, выглядели они пожеванно и хмуро, на меня – никакого внимания, я перестал их интересовать, переговаривались они вяло, односложно.
Прощались мы вполне мирно, с шутками:
– Передай привет своим друзьям-армянам.
– Обязательно передам.
Я спросил, где они работают. Двое оказались работниками обкома, а третий, тот худенький и небритый, собиравшийся еще вчера идти всем народом, оказался служителем муз – выпускником института культуры.
Дальше в купе я поехал один. За окном бежала серая холмистая пустыня с клубками колючек; иногда проскакивали деревья, каналы, канавы, низкие домишки, запутавшиеся в зелени, загаженные станции, гуси, лошади, отары овец и виноградники – все это быстро продергивалось мимо скачущей лептой и надолго замещалось все той же клочковатой пустыней. Равнинный Азербайджан – богатейшая земля, лежащая в беспорядочном хламе, – моя родина.
Состав снижает скорость и медленно ползет вдоль заграждений. Это граница с Ираном. С нашей стороны – два ряда колючей проволоки на столбах с сигнализацией и пограничные заставы, со стороны Ирана – та же голая равнина без признаков жизни и лишь где-то на горизонте встают холмы; на одном из них белыми камнями выложен портрет Хомейни. Он смотрит в нашу сторону. Ни пограничников, пи заграждений. «Тах-тили-тах, тах-тили-тах», – стучат колеса, и меня бьет о стенку вагона. Пути так изношены, что кажется, что поезд когда-нибудь с них соскользнет, как бусинка с ниточки, – как здесь до сих пор не было крушений?
На одной из станций выяснилось, что от Миндживана в Кафан пойдут только четыре вагона: пассажиров нет, так какой смысл гонять пустые вагоны? Смысла никакого нет, мне пришлось срочно перебираться в соседний вагон, я помог перетащить вещи женщинам-армянкам из соседнего купе. Чего только у них не было: ящики, ящички, посуда, зеркала, стекла, рамы, карнизы, узлы, коробки – все, что осталось от нажитого. Вот зеркало, старое зеркало, посмотрите, какое хорошее, как бросить, жалко, всю жизнь жили в Арменикенде, знаете, там наверху, э-э… дом был, двор был, виноград был, все бросили, а что делать, завтра придут – убьют. А здесь она купила маленький дом, курочки есть, огород, приходите в гости обязательно.